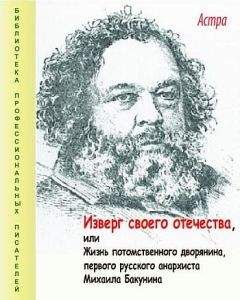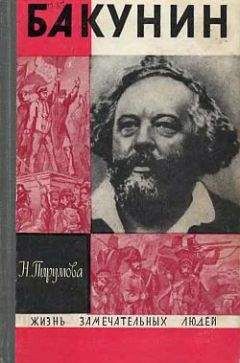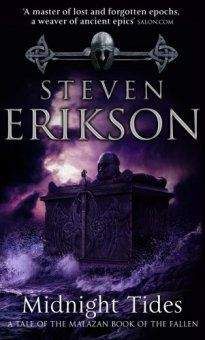— Значит, вам теперь безразлично, что будет с нами, Бакунин, со всем человечеством?
— Бедное человечество! Совершенно очевидно, что выйти из этой клоаки оно сможет только с помощью колоссальной социальной революции. Одна надежда: всемирная война. Эти гигантские военные государства рано или поздно должны будут уничтожить и пожрать друг друга.
Он посмотрел на присутствующего тут же русского гостя по фамилии Зайцев. Тому пора было уезжать и он давно сидел, как на иголках, не решаясь прервать речь мэтра.
— Ах, милый, пойдем, пойдем, ведь тебе недосуг, ты спешишь.
Они прошли в другую комнату. Бакунин внимательно высчитал по путеводителю количество денег, необходимых для путешествия, и потребовал, чтобы Зайцев показал ему свои копейки.
— Ну, право, Михаил Александрович, мне неловко. Я остановлюсь в Богемии, там у меня есть приятель, у которого я смогу взять денег, сколько мне понадобиться!
— Ну-ну, рассказывай, — возразил Бакунин.
Он вытащил из стола небольшую деревянную коробочку, отворил и, сопя, отсчитал тридцать с лишним франков.
— Вот, теперь хватит.
— Хорошо, по приезде в Россию я вышлю непременно.
Но Бакунин сопел и, глядя на него, улыбался.
— Кому, мне вышлешь? Это я даю не свои деньги.
— Кому же их перечислить, в таком случае?
— Большой же ты собственник. Да отдай их на русские дела, если уже непременно хочешь отдать.
… После позднего ухода гостей Бакунин работал до рассвета, потом опять бросался на топчан до восьми утра, не снимая ни сапог, ни панталон из-за болей в почках, печени, сердце.
В начале лета 1876 года Антония с тремя детьми уехала в Неаполь к морю и к Гамбуцци. Бакунин, оставшись один, взялся было за дело. Конечно, ему хотелось «маленького Прямухино», память о возделанном рае которого грела его сердце всю жизнь. Вести из родного гнезда шли разные, ровесники понемногу уходили, умерла Татьяна, подросло новое поколение, мало говорившее сердцу. Но дом, но сад, пруды и аллеи, Осуга, природная и «поэтическая», сочиненная отцом… о, как понимал, почитал он сейчас своего отца, и по-прежнему мучительно, словно в одиннадцать лет, не принимал мать. Но прочь, прочь!
Фруктовые деревья уже стояли в рядок, зеленел кустарник, пышно цвели посаженные Антонией местные яркие цветы. В нескольких ямах по-прежнему жили лягушки. Упершись руками в толстые колени, Мишель с трудом наклонился посмотреть на пучеглазых квакушек, и вдруг чуть не свалился прямо к ним. Поскорей сделал шаг-другой в сторону и встал, расставив ноги для устойчивости.
— Michele! — к нему спешил итальянец-чернорабочий, единственный, оставшийся с ним.
— Да, милый, проводи меня в дом, что-то мне неможется.
Вечером они выехали из Лугано. Мишель направлялся в Берн, в клинику доктора Фогта, старинного своего друга.
Дорогой он молчал, не позволяя боли вынудить его на крик.
— Я приехал к тебе умирать, — объявил он Фогту.
Тот осмотрел и обслушал его, покачивая крупной лысой головой мыслителя от медицины.
— Прежде всего, друг мой, тебе нужно вести более упорядочную жизнь.
— Ба! Я всегда жил беспорядочно, и про меня скажут, что в порядке умер. Маша. — обратился он к Марии Рейхель, которая вместе с мужем пришла его навестить, — Машенька, свари мне гречневой каши. Вот что мне сейчас хочется.
И Мария Каспаровна отправилась искать гречку по всему городу. Едва нашла, сварила по-русски, пышную, с маслом.
— Вот каша — другое дело. Спасибо, родная.
— Мишель, — сказал Рейхель, — мы приглашаем тебя к себе на чашку чая. Это недалеко, ты знаешь.
Ему трудно было сидеть, он стоял, прислонившись к железной печке, опершись на стол тяжелыми локтями, и слушал игру на фортепиано своего неизменного друга, точно в вечность вперивши туманный свой безжизненный взгляд.
— Все пройдет, мир погибнет, но Девятая Симфония останется… А ты играй, играй, мой милый, ты же знаешь, что перед вечностью все едино.
Прошло еще несколько дней. Бакунин умирал с полным сознанием самого себя. До самой кончины его беседы сохраняли юношескую живость.
— Мне уже ничего не нужно, моя песенка спета. Вот каша — это другое дело.
Умер он тихо, без притворства. За полчаса до смерти поговорил о чем-то с сиделкой, и едва она вышла, испустил дух.
Было очень жарко. Тело поторопились предать земле.
… Два могильщика стояли с заступами в руках и, воткнув их, переговаривались.
— Не часто приходится рыть такие глубокие могилы, но эта вышла так глубока, что в ней, кажется, может успокоится и великий бунтарь.
— В жизнь свою не видел такого большого гроба, — посмотрел другой на дроги с телом Бакунина.
— И устали же лошади на такой жаре, — сказал его товарищ. — А кто же за ними? Все коммунары?
Жена на похороны не успела. В истерике, с цветами, в трауре, она появилась потом. Через год она обвенчалась с Гамбуцци.
Зато у Фогта вышла неловкая заминка с необходимым протоколом о личности умершего. Полицейский никак не мог взять в толк, чем занимался усопший.
— Да вы мне лучше скажите, чем и как он зарабатывал свой хлеб?
— Сдается мне, — неуверенно произнес знаменитый профессор, — что он обладал виллой в итальянской Швейцарии.
Полисмен просиял и поспешно записал в свою книжку.
— Мишель Бакунин, рантье.
В Лугано весть пришла без всяких приготовлений.
— Michele e morto, — произнес кто-то в кафе, где по обыкновению, сидело немало народу.
И какое потрясающее впечатление произвели эти слова! Плакали не одни бакунисты, плакали швейцарцы, один кинулся на землю, бил ногами по полу, как ребенок, и плакал навзрыд. От этого дня осталось смутное впечатление катаклизма. Рушились какие-то великие надежды, личность Бакунина выросла до сверхъестественных размеров. Куда бы не размела жизнь тех, кто сидел тогда в комнате, у каждого билось сердце гордого, свободолюбивого, независимого человека, ненавидевшего всякий род стадного рабства.
Вечный борец и протестант, Бакунин, кажется, действительно, воспринял в свою душу нечто от Аввакума, Разина и Пугачева.
… Когда-то Герцен, размышляя о нечеловеческой энергии и широкой мечтательности молодого Бакунина, заметил, что тот, должно быть, далеко опередил свое время и что силы его остались невостребованными.
Но мы… мы промолчим.