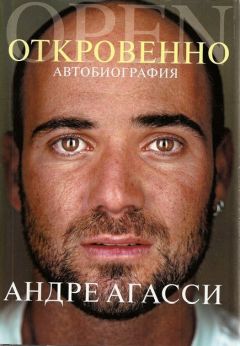Несколькими днями позже я прошу Перри переписать на имя Фрэнки несколько акций Nike из отложенных мною на черный день. Когда мы с Брук в следующий раз приходим в Campanola я сообщаю об этом Фрэнки. Акции нельзя трогать в течение десяти лет, объясняю я, но к тому моменту они будут стоить достаточно, чтобы существенно облегчить бремя оплаты колледжа.
У Фрэнки задрожала нижняя губа.
— Андре, — говорит он, — не могу поверить, что ты сделал это для меня.
Он, похоже, в шоке. Я никогда не понимал значения и ценности образования, того, сколько трудностей испытывают из-за него и дети, и родители. Раньше я не думал об образовании с этой точки зрения. Школа всегда была местом, которое я избегал, а вовсе не тем, куда стремился попасть. Эти акции я переписал на Фрэнки лишь потому, что он упомянул о колледже в разговоре, а я решил помочь. То, как он отреагировал на мою помощь, стало для меня ценным уроком.
Помощь Фрэнки принесла мне больше удовлетворения, радости, мира с самим собой, чем все остальные события 1996 года. Все время твержу себе: помни и держись за это — ты должен помогать людям. Лишь так мы делаем что-то значимое, то, что останется в памяти. Именно для этого и живем — чтобы приносить покой и безопасность другим.
В 1996 году покой кажется мне особенно ценным. Брук регулярно получает письма от неуравновешенных поклонников, угрожающих ей. а иногда и мне, смертью и разнообразными ужасами. Письма подробные, пугающие, наполненные безумием. Мы переправляем их в ФБР. Кроме того, просим Джила оставаться на связи с агентами, следить, как идет расследование. В некоторых случаях, когда отправителя письма можно отследить, Джил делается неуправляемым. Он садится в самолет и наносит визит чрезмерно рьяному поклоннику. Как правило, он появляется на работе или дома у автора письма рано утром, сразу после восхода солнца. Держа письмо в руках и пристально глядя автору в глаза, он тихо произносит:
— Я знаю, кто ты и где живешь. Теперь хорошенько посмотри на меня, потому что, если ты опять потревожишь Брук и Андре, ты увидишь меня еще раз. И будешь жалеть об этом до конца своих дней.
Но, оказывается, отправителей самых страшных писем отследить невозможно. Если в послании обещают совершить нечто ужасное в определенный день и час, Джил встает на страже у порога особняка Брук. Он так и стоит — на крыльце, в постоянном напряжении, глядя то влево, то вправо. Всю ночь. Ночь за ночью.
Все это напряжение и грязь Джил переживает очень тяжело. Он постоянно беспокоится, что сделал не все необходимое, что-то упустил. Боится, что однажды моргнет или посмотрит в другую сторону — и какой-нибудь подонок проскочит мимо. Эта мысль преследует его неотвязно, его грызет депрессия, а вместе с ним переживаю и я, ведь все это происходит по моей вине.
Тем не менее пытаюсь отвлечься от мрачных мыслей, внушить себе, что невозможно быть несчастным, когда у тебя есть солидный счет в банке и собственный самолет. Не помогает: меня снедают апатия и безнадежность, мучаюсь из-за того, что проживаю жизнь, которую не выбирал, что меня преследуют люди, которых я не хочу видеть. Я не могу обсуждать это с Брук, поскольку боюсь признаваться перед ней в своих слабостях. Впадать в депрессию после поражения — это одно, но страдать от депрессии без причины, из-за неустроенности жизни в целом — это совсем другое.
Но, даже если бы я хотел обсудить свои проблемы с Брук, наши отношения в последние дни этому отнюдь не способствуют. Мы настроены на разные частоты в разных диапазонах. К примеру, когда я пытаюсь рассказать ей, как приятно было помогать Фрэнки, она, кажется, не слышит. Она была рада нас познакомить, но с тех пор остается к нему безразличной, как будто он сыграл свою роль и вот теперь должен покинуть сцену. Впрочем, так она ведет себя довольно часто. То же самое происходит со многими людьми и местами, с которыми знакомит меня Брук. Музеи, галереи, знаменитости, писатели, спектакли, друзья — часто я получаю больше от общения с ними, чем она сама. Но стоит мне начать получать удовольствие от чего бы то ни было, узнавать что-либо интересное — как для нее эта тема уже в прошлом.
Это заставляет меня задуматься, так ли уж мы подходим друт другу. Похоже, не очень… И все-таки я не могу отступать, не могу предложить ей сделать перерыв в наших отношениях, ведь от тенниса я уже отошел. Без Брук и тенниса у меня не останется ничего. Я боюсь пустоты, темноты. Поэтому цепляюсь за Брук, а она — за меня. И хотя наши судорожные объятия внешне похожи на любовь, они все же больше напоминают ту картину, которая так поразила меня в Лувре. Попытки удержаться за дорогого тебе человека.
Тем временем приближается вторая годовщина нашего знакомства, и я решаю отметить ее, узаконив наше с ней цепляние друг за друга. Два года — решающий срок для моих романов. Во всех предыдущих случаях именно через два года мне приходилось выбирать — узаконить отношения или расстаться. И я всегда выбирал расставание. Каждые пару лет либо я уставал от своей девушки, либо она — от меня. Казалось, мой «таймер любови» всегда поставлен на два года, потом в нем просто заканчивается завод. Мы провели с Венди два года — но она решила, что наши отношения должны быть открытыми, и это стало началом конца. До этого у меня в течение двух лет была связь с одной девушкой в Мемфисе, а потом я дал деру. Не знаю, почему моя личная жизнь всецело подчиняется двухлетнему циклу. Я даже не догадывался об этом, пока Перри не открыл мне глаза.
Так или иначе, я твердо решил положить этому конец. Мне двадцать шесть, я должен разрушить привычную схему, иначе к тридцати шести мне останется лишь вспоминать череду двухгодичных романов, каждый из которых закончился ничем. Если я собираюсь иметь семью, найти свое счастье, то должен разбить этот порочный круг, то есть проскочить двухгодичную отметку, прочно связав себя с партнершей.
Конечно, если подсчитывать непрерывный срок отношений, партнерство с Брук длится меньше двух лет. С учетом наших безумных расписаний, моих турниров, ее съемок мы вместе всего несколько месяцев. Мы еще только узнаем друг друга, только учимся быть вместе. Какая-то часть сознания твердит, что спешить ни к чему. Я просто-напросто пока не готов жениться. Но какая разница, чего я хочу? Когда мои поступки определялись моими желаниями? Я часто появлялся на турнире с желанием играть — лишь для того, чтобы вылететь в одном из первых раундов. Еще чаще мне приходилось приступать к игре безо всякого желания — что не мешало добиваться победы. Женитьба — это самый важный матч, это турнир, где на кону — возможность разделить свою жизнь с другим человеком. Может быть, и здесь будут действовать те же правила?