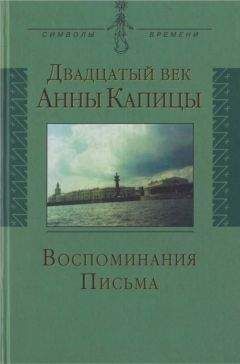Тогда они будут знать, как с родственниками обращаться. — Здесь, в Москве, у тетки Оли[90] тоже есть котик, нажувается Кузьма, я с ним подружилась. Они страшные кусаки, я их иногда по задам хлопаю за это. Но потом они опять ко мне полезают. Когда вы приедете, вы познакомитесь с ними. — Отчего вы так редко пишете? Пишите мне, мне очень понравилось ваше письмецо. — Целую вас крепко и очень шчотаю жа подругу. Шележка уехал учиться, станет теперь умным.
Ваша тетка
ЕРМОЛИНСКИЙ. НЕНАПИСАННАЯ КНИГА
* * *
Вот когда пришло время мне непрерывно думать о тебе, Ермолинский. Раньше я боялась, а теперь мне уже пора умирать.
* * *
Вот он стоит передо мной, слегка под хмельком, в старой, прошедшей все этапы и тюрьмы[91] шубе, нахохлился, как больная птица. Стоит в подворотне, около помоек. Коты с диким визгом носятся по этим ящикам. По помойным ящикам. И я чувствую, что я должна что-то сделать, что-то важное. Такое важное, от чего зависит и моя жизнь. А я не могу сказать этого. Гордость сковывает меня.
— Скажите, что мне делать с моей гордыней, как быть? — вместо этого говорю я.
Человек, стоящий передо мной, нахмурился, задумался, держась обеими руками за измятый воротник.
— Попрать! — так громко, что коты прыснули в сторону, произнес он, повернулся и твердо, вдруг совершенно протрезвев, пошел прочь.
А я тихо побрела к своему дому. Но именно около этой помойки я поняла, что я должна делать: попрать гордыню.
* * *
Все дело было в моей гордыне и попрании ее. Конечно, видимо, было много трудного, но сейчас мне кажется, когда уже все отстоялось, что все было только счастьем.
И сейчас, конечно, я счастлива. «Счастливая старуха». Мешают болезни: астма, сердце, сломанное бедро, мешает старость, себялюбие, телевизор, желание ничего не делать. Но, в общем, счастлива.
Звонила Крымова[92], говорила, что мне необходимо писать о С.А., а я говорила, что мне трудно, что все очень близко и мне надо прожить 100 лет для того, чтобы начать писать.
* * *
Милый Сережа!
Неужели мне не хватит сил написать про Вас, и я так и умру молча? Я ведь столько могла рассказать про Вас людям. Тяжелая занавесь молчания окружает меня. И полное бессилие! Вспоминаю, например, как мы познакомились с Вами.
Помните, как я пришла в 1947 году к Фрадкиной[93] слушать «Грибоедова»[94], и навстречу мне поднялся с дивана какой-то очень длинный, так мне показалось, белокурый и очень бледный человек в очках, очень худой и больной, и рука была тонкая и узкая. Это были Вы.
Фрадкина позвала еще каких-то режиссеров, в надежде, что они возьмут Вашу пьесу.
Вы читали, заметно волнуясь, из-за этого я слушала плохо: это мне мешало.
По окончании чтения все выпили водки, растерзали Елены Мих. салат и побежали в ВТО, которое помещалось рядом, за добавочной водкой. Все стали пьяные (потому что закуски не было). И вы начали кричать, что они дураки и ничего не понимают, и как только им авторы доверяют свои пьесы. А они тоже что-то кричали, но все кончилось взаимной любовью. Пьесу хвалили, но ставить ее никто не собирался.
Вы содрали у меня с пальца бирюзовый перстенечек, сказали, что он принесет Вам счастье. Потом все ушли. На улице я оказалась между Вами и Гушанским[95]. Оба Вы сильно качались. Когда у Никитских ворот я спросила, где Вы остановились (зная, что Гушанскому надо поворачивать на Никитскую), я получила ответ: — Буду ночевать на бульваре. — Я этого не допущу, пойдемте ночевать ко мне.
Пьяный Гушанский демонстративно качнулся, надвинул шапку на лоб и зашагал прочь, всем своим видом показывая всю недопустимость моего предложения. Среди ночи дама зовет ночевать первый раз увиденного человека.
Мы закачались в Староконюшенный переулок. Мои окна были освещены. К чести моего мужа должна сказать, что он встретил нас радостно.
— Сережа, откуда ты взялся? (Действительно, откуда? Они знали друг друга с незапамятных времен.)
Появилась припрятанная четвертинка, встреченная восторженно. Я легла спать в маленькой комнате. Они в большой коротали ночь.
Я проснулась утром от телефонного звонка. Вы звонили Лене Булгаковой: — Я у Татьяны Александровны Луговской. Так получилось. Я был пьяный, и она взяла меня в свой дом.
Вот так состоялось наше первое знакомство.
Потом Вы уехали и писали мне короткие скорбные письма. И в каждом письме — грузинский рассказ. Получалось очень толстое письмо.
Вы пили грузинское вино и тихо погибали в Тбилиси, а я в Москве все время думала о Вас.
* * *
Вспомним, как мы первый раз сели на пароход «Радищев». Колесный еще пароход. Какое это было счастье иметь над головой крышу и быть вместе. Мы выходили гулять на всех пристанях, мы радовались шлюзам.
В мутном воздухе шлюза мы толчками поднимались вверх. В воде плавала пена, похожая на гигантские плевки.
Из-за холодной и мертвой стены шлюза, словно приподнимаясь на цыпочки, стала появляться жизнь в виде домиков с красными крышами, дороги и нескольких голодных и тощих собак.
Над Угличем кудрявились старинные облака.
Церкви большими просфорами лежали на горизонте, заключенные в клетки из проводов и вышек.
Чистенькие старушки продавали на косогоре топленое молоко и китайские яблочки.
* * *
Единственное, что омрачало мое настроение — это Ваше тяготение к буфету. Мы называли его — буфэт. Вы тогда старались заглушить, забить тюремные впечатления глотком горячительного. На каждой остановке, озирая окрестности, Вы радостно восклицали: «Буфэт!» «Буфэт», — вторила я сокрушенно, стараясь отвлечь Вас от него. Иногда удавалось.
Подъезжаем к Саратову, вдруг Ермолинский строго и, как мне показалось, даже резко заявляет мне:
— Таня, я хочу выйти в город один.
С нами крестная сила, этого еще не хватало.
— Может, Вы хотите напиться? Это можно сделать и при мне.
— Не хочу.
Переполненная недоумением, остаюсь на пароходе. Стоянка не длительная. Первый звонок. Второй. Готовый к отплытию пароход начал дрожать (он колесный). С тревогой смотрю на пристань. Третий звонок. Среди редких людей показалась светлая голова Сергея Александровича. Стук в мою дверь.
Позже он рассказал мне всю свою историю, связанную с Саратовым. Раньше он избегал говорить об этом.
Когда началась война, Сергей Александрович находился в саратовской тюрьме, сначала среди уголовников, потом его перевели в одиночную камеру. Он очень ослаб, началась цинга, нарывы на ногах. Он уже почти не вставал. И вдруг однажды его вызывают к начальнику тюрьмы (дело было к вечеру) и зачитывают постановление о том, что он подлежит высылке на три года в Кызыл-Орду. Его предупредили, что в течение 24 часов он должен покинуть Саратов.