смерти? — потешался Бочков, тиская старика коленом в грудь.
— Отпусти, служба, пра, отпусти, — заворчал старик, предвидя беду.
— А будешь кормить хорошо?
— Буду, пра, буду; ослобони же!
— Ив хлев гнать не станешь? И бахвалиться не будешь?
— Не буду, пра, не буду; ослобони же!
— Ну хорошо, прощаю, только с уговором: сейчас всем отличный ужин; да чтоб и говядина, и сметана, и ситник, и творог — все чтоб было!
По прошествии некоторого времени старик мало-помалу стал опять входить в прежнюю роль: то худо кормит, то плохо услуживает, то спорит с постояльцами, а то и ругнет их. Терпел, терпел наш Бочков да подговорил несколько человек товарищей, привел их к себе в квартиру, усадил кругом обеденного стола, под образами, и велел им чистить пуговицы насыпанным на самом столе тертым кирпичом, а сам зашагал взад и вперед по избе в шапке, насвистывая какую-то песню. Старика сперва не было, но, войдя в избу, он возмутился:
— Перестань, служба, свистать да и шапку-то сними: тутотка, чай, не хлев, а изба, иконы висят! — строго начал он.
— Да разве такие иконы бывают? — насмешливо спрашивает Бочков, продолжая ходить в шапке. — На них и лика-то никакого не видать, какие же это иконы? По-нашему, по-православному, такие доски сжигают, а пепел от них высыпают в реку, а ты сдуру называешь их иконами! Какие это иконы?
Пошла ругань. Старик доказывал превосходство своей веры и стал издеваться над господствующей религией.
— Так ты над Богом смеешься! — воскликнул Бочков. — Слышите, ребята, что он говорит?
— Слышим, слышим, — подтверждают товарищи.
— Будьте ж свидетелями. А ты, старая карга, пойдем к начальству, пойдем, колдун ты эдакий! — Бочков схватил старика за ворот и потащил было его из избы, но тот упирался, не шел и еще пуще ругался.
— Помогите, братцы, стащить его к ротному.
По приводе туда доложили правящему, а тот — Тараканову. В избу ввели старика. Он был бледнее полотна, глаза его дико блуждали, руки тряслись.
— Связать его! — крикнул Тараканов. — Как ты смел притеснять кантонистов? — продолжал он, когда старику связали руки назад. — Как ты, спрашиваю я, смел совращать в свою ересь их, царских воспитанников, резать Бочкова, надругаться над святынею, а?
Старик молчал. Он был ни жив ни мертв.
— Запереть его в амбар, приставить к дверям часовых и ждать моего приказания, — заключил Тараканов.
Приказание тотчас исполнилось.
Крестьяне, узнав по возвращении с поля о несчастье их попа, тотчас послали депутацию — хлопотать за него. Но Тараканов встретил ее еще сильнейшею речью и поклялся, что через день непременно расстреляет старика. Весь следующий день продолжалась по деревне суматоха, и уже поздно вечером Тараканов едва согласился выпустить старика, взяв с мужиков клятву, что они будут и беречь и холить как зеницу ока кантонистов, этих, как он назвал их, царских воспитанников. Затем он дал правящему два и Бочкову [11] один червонец, со всеми ласково распрощался да и уехал восвояси. А по деревне разнесся слух, будто за освобождение старика он содрал с крестьянского общества 30 червонцев.
В селе был базарный день. На площади стояло множество возов со всякою всячиною.
— Батюшка барин, смилуйся: вели отдать мою тушу, — взмолился мужичок, кланяясь в ноги Федоренко.
— Толком говори, чего просишь, и не хнычь! — крикнул Федоренко, притопнув ногою.
— Твои, барин, кантонисты стащили с моего воза тушу. Вели ее мне отдать.
— Кто стащил? Когда стащил, да и какую такую тушу?
— Самый большой кантонист стащил говяжью тушу, быковую, значит, ляжку, да и убег сюда, в твою фатеру. Вели отдать — век не забуду.
— Эй, вестовые!
В дверь вошли разом три кантониста, в числе которых был некто Хавров, сухопарый высокий юноша лет 18, отъявленный вор и отчаянный смельчак в этом деле.
— Вот ен, барин, ен самый и стащил тушу-то, — заговорил мужичок, указывая на Хаврова. — Не попусти, барин, в обиду. Я человек бедный, торгую с хлеба на квас.
— Ты, Андреев, притащи мне сюда десятского, да чтоб принес с собою кандалы; а ты, Ананьев, запри ворота на замок и стань часовым у калитки, чтоб никто не вошел и не вышел.
Кантонисты со всех ног бросились исполнять приказание. Оставшиеся в избе Федоренко, правящий, Хавров и мужичок молчали.
Вскоре явился десятский. Помолившись на образа, он стал у двери.
— Говори, мужик, в чем твоя претензия? — грозно начал Федоренко.
— Да я, батюшка барин, ни на кого не жалюсь, а пришел к твоей милости насчет туши-то, — заговорил мужичок, видимо, струсив. — Вон ен самый ее украл да к тебе на фатеру и уволок: весь народ эвто видел, да не успели яво догнать. Я, пра, не жалюсь.
— Украл ты, Хавров у него тушу?
— Никак нет-с, ваше благородье.
— Не знаешь, кто украл?
— Не могу знать-с… Я сегодня и на улицу совсем не выходил.
— Слышишь, бородач ты этакой?
— Слышать-то слышу, только ен, барин, обманывает!
— И ты еще смеешь говорить: он украл и унес сюда? Ведь это значит, не только он, но и я, по твоим словам, вор? Я, капитан? Мы, царские слуги, — воры?… Кандалы сюда!.. Заковать его.
Но десятский топтался на одном месте.
— Чего ж ты ждешь? Заковывай!
— Да осмелюсь доложить тоже насчет… — десятский запнулся.
— Насчет чего? Говори, говори прямо, а не юли.
— Да я насчет того, ваше благородье, ежели не изволите осерчать за правду, кантонисты ваши и то маху не дают. Где что плохо лежит, там у них уж и брюхо болит: беспременно утянут. Да не токма што из стоющего, а и хлеб, яйца, пироги — все таскают. У нас, на селе, распорядок, вишь ты, такой есть: все зажиточные хрестьяне в сумерках сносят к жилью беднеющих алибо хворых хрестьян всякое съедомое да, положимши на подоконник избы, постучат в оконце, молвят: «Примите, хозяева, потайную милостыню», да и убегают домой, штоб, значит, не видали, кто принес. И покуда бедняга аль хворый выходит за милостынею-то, кантонисты тем временем уж стянули ее да и дали тягу.
— Ты, Карпов, это знаешь? — спрашивал Федоренко правящего.
— Обвинять всех огулом тоже нельзя. Ты бы прежде поймал кого-нибудь и представил мне, а то «не пойман — не вор».
— Оно, ваше благородье, точно, «не пойман — не вор», да где ж их поймать-то? Схватит иной вон целый пирог али каравай хлеба да и улепетывает с ним стрелой, будто птица…
— А ежели так, не смей и жаловаться.
— Да я, ваше благородье, и не жалуюсь, а так, бытто к слову, молвил, а все прочее ничего, в ладах живем.
— То-то же!


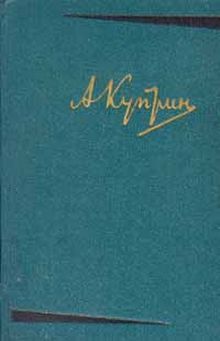
![Олег Хазин - Пажи, кадеты, юнкера [Исторический очерк]](https://cdn.my-library.info/books/46592/46592.jpg)
![Олег Хазин - Пажи, кадеты, юнкера[Исторический очерк]](https://cdn.my-library.info/books/44540/44540.jpg)
