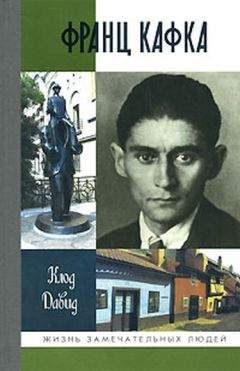Но в эти же месяцы вновь появляется тема, которая казалась почти забытой. В один из январских дней 1922 года Кафка отмечает: «Спокойствие понемногу возвращается. Но в отместку прибывает G.». По поводу этого инициала, который, похоже, не соответствует ни одному из известных имен, задавались вопросы, пока один из комментаторов не выдвинул гипотезу о том, что речь могла идти о первой букве слова «Geschlecht» — пол. Мысль допустимая и даже правдоподобная. В самом деле, Кафкой неожиданно овладевают желания, которые его «гнетут, мучают днем и ночью». Письмо Максу Броду описывает отдыхающих женщин с одутловатым и набрякшим от воды телом, которые через каждые десять шагов поправляют свои туалеты, одергивая их на грудях, подобно тому, как мужчины одергивают свои жилеты; можно подумать, пишет Кафка, высокочтимые красивые грибы. Рядом с ними деревенские женщины, сухопарые и крепкие, высушенные непогодой, работой и заботами, — именно к ним с большим удовольствием обращается его взгляд. Эта странная смесь отвращения и желания, о которой здесь говорится, по правде говоря, коренится в прошлом. Он так описывает плоть, которая, похоже, обречена хранить свою свежесть всего лишь несколько дней: «в действительности она сохраняется достаточно долго /…/; значит, нужно, чтобы человеческая жизнь была короткой для того, чтобы эта плоть, к которой едва осмеливаешься прикоснуться из-за ее хрупкости, из-за ее округлостей, как будто созданных, чтобы продлить мгновение /…/, нужно, чтобы человеческая жизнь была короткой, чтобы такая плоть сохранялась большую часть жизни». В 1905 году он уже писал по поводу платьев, которые носят девушки: они скоро приобретут «складки, которые нельзя будет разгладить, пыль набьется в самую глубину гарнитуры /…/. И тем не менее есть девушки красивые, впрочем, девушки с чудесной мускулатурой, с тонкими лодыжками, с нежно упругой кожей, с волной пушистых волос, которые ежедневно натягивают на себя этот вечный маскарадный костюм /…/. Лишь иногда по вечерам, поздно возвратившись с какого-нибудь праздника, они обнаруживают в зеркале свое потрепанное, одутловатое, запыленное лицо, слишком много видевшее и вряд ли возбуждающее желание».
Как видим, впечатление давнее и внутренний конфликт застарелый. Но в этот поздний период физическая слабость, периодическое присутствие Милены, непрошеное возвращение либидо приводят к тому, что старые проблемы неожиданно приобретают крайне острые формы. Кафка подводит итог своей жизни: он испытывает чувство, что все испортил, что ему не удалось жить настоящим, кроме, может быть, единственного раза в Мариенбаде, когда он думал, что ему на несколько дней удалось достичь взаимопонимания с Фелицей Бауэр. Это секс является причиной всего, он пренебрег этим ценнейшим из всех даров. Может быть, для этого нужен был случай, какой-нибудь пустяк? Но каким образом может утешить подобное соображение? «Так было во всех крупных битвах жизни». Всегдашний страх увел его от жизни. Его грех заключается в уклонении от исполнения предписанного Законом и в бессилии. Он тот, кто не может любить, тот, кто постоянно слышал: «Ты не можешь меня любить как бы ты того ни хотел; ты, на свою беду, любишь любовь ко мне; любовь ко мне не любит тебя». «Поэтому неправильно говорить, будто я познал слова «Я люблю тебя». Я познал лишь тишину ожидания, которую должны были нарушить мои слова: «Я люблю тебя», только это я познал, ничего другого». Он приблизился к Ханаану, но так в него никогда и не вошел. По правде говоря, случайно ли это? Случайно ли, что даже Моисей не ступил туда ногой? Может быть, Земля обетованная не больше чем мираж, не больше чем «химера отчаяния»? Не подобна ли она той близкой деревне, описанной в рассказе 1917 года, такой близкой и однако такой далекой, что не хватает всей жизни, чтобы ее достичь? Может быть» это его особенная судьба? А может быть, судьба всей эпохи, выразить которую он был подготовлен лучше любого другого своими страданиями? Или, может быть, это извечная судьба рода людского?
Как в этом предельном напряжении можно избежать безумия? Кафка не впервые задает себе этот вопрос, но, вне всякого сомнения: он никогда не был более оправданным, чем в зимние месяцы 1922 года. Впрочем, Кафке, который постоянно пребывал в борьбе с неврозами, безумие никогда не угрожало. И он это хорошо знал. Возможно, он был защищен от него самой своей слабостью, «смесью робости, сдержанности, болтливости, безразличия», которая, по его мнению, играет здесь ключевую роль: «Эта слабость удерживает меня как от безумия, так и от любого взлета. За то, что она удерживает меня от безумия, я лелею ее; из страха перед безумием я жертвую взлетом». Он расценивает это как сделку, в которой он, несомненно, останется в проигрыше.
Но есть также другое обстоятельство, защищающее его от безумия, обстоятельство, отличное от аргументов, которые внушает ему ложное уничижение. Он мог бы быть раздавлен на границе между обычным миром, в котором живут другие и из которого он сам изгнан, и «другим миром», предназначенным для него. Этого не случилось, потому что ему был предоставлен выход или побег, каковым является литература. Литература, говорит Кафка, привилегированное место, которое позволяет смотреть на мир более свободно, как будто оказался на мгновение защищенным от житейских бурь и жестокости; она доставляет «странное и таинственное утешение». Но какой ценой! Тому, кто не сумел подойти к своему концу, прожив полноценную жизнь, приходится одной рукой отталкивать отчаяние и в то же время другой держаться за то, что еще удается различить посреди руин, ибо он мертв, добавляет Кафка, живой мертвец, он старается лишь пережить самого себя. Сочинительство — данник любой случайности мира: оно зависит от горничной, которая приходит, чтобы затопить печь; от кошки, которая хочет на ней погреться. Весь внешний мир повинуется строгим законам, которые им управляют, но чему повинуется сочинительство? Оно не имеет ни независимости, ни оправдания в самом себе, оно всего лишь «игра и отчаяние». И, конечно же, туберкулезник может не писать: «удушье является немыслимым ужасом», он может даже испытать что-то вроде счастья, сочиняя эту фразу, но она не поможет избежать удушья, она ничему не служит. Так что в обмен на все, в чем было отказано Кафке — предки, брак, потомки, — он получил лишь «искусственную и жалкую компенсацию». Эта компенсация создается лишь в спазмах страдания, и «если уже не погиб от этих спазмов, погибаешь от удручающей бедности утешения». Тем более, что никогда не решаешься полностью забыть другой берег, берег жизни, откуда изгнан и где страдание было бы не меньшим: «Но зачем же, — спрашивает он, — я увеличиваю несчастье, стремясь попасть на другой берег, когда нахожусь на этом берегу?» Таким образом, литература одновременно является спасением и мукой. «Я живу, — пишет он Максу Броду, — над тьмой, из которой поднимается, когда захочет, темная сила». Его заставляет жить литература, и когда он не может писать, его страдания становятся сильнее, но что представляет та жизнь, которая дает ему возможность писать? Что компенсирует литература, даже если временами он находит в ней «сладкую и чудесную награду»? «Этой ночью мне стало ясно, как ребенку, которому все показали наглядно, что это награда за служение дьяволу». Демоны, в естественном состоянии связанные, в творчестве освобождаются от своих пут и начинают его мучить. Возможно, существует иная манера письма, но Кафка знает лишь эту, подтверждаемую ежедневным опытом. И не потому что эта литература обнажает (представляет) незнаемый или неизвестный ад, Кафка безоговорочно отказывает ей в этой способности. Он принимает ее лишь потому, что она дает пишущему возможность поддерживать нездоровые отношения с самим собой. Творчество, как его понимает Кафка, берет свое начало в тщеславии и жажде наслаждений. Пишущий всматривается в то, как он живет и умирает, и из этого спектакля извлекает наслаждение. Он подобен человеку, который хочет умереть и одновременно воспользоваться этим, чтобы увидеть, как будут проливать слезы на его могиле. Поскольку он не жил, он вдвойне испытывает страх смерти. «То, что казалось мне игрой, оказалось действительностью. Творчеством я не откупился. Всю жизнь я умирал, а теперь умру на самом деле. Моя жизнь была слаще, чем у других, тем страшнее будет моя смерть. Писатель во мне, конечно, умрет сразу, ведь у такой персоны нет никакой почвы, нет никакого состояния, пусть хотя бы состоящего из праха; есть лишь небольшой шанс в безумнейшей земной жизни, есть лишь конструкция жажды наслаждений. Это и есть писатель. Но сам я не могу жить дальше, потому что я ведь и не жил, я остался глиной, я не превратил искру в пламя, а испытывал ее лишь для иллюминации собственного трупа». И далее: «Это будет особенное погребение, писатель, то есть нечто несуществующее, предает старый труп, давно уже труп, могиле». Эти горькие размышления относятся к июлю 1922 года. В том же письме немного дальше Кафка пишет: «Таким образом, решено, что больше я из Богемии не выезжаю, вначале я ограничусь Прагой, потом своей комнатой, а потом своей кроватью, потом определенным положением тела, потом и вовсе ничем. Может быть, потом я добровольно /…/ смогу отказаться и от счастья писать». Он ошибается: он снова покинет Прагу, он даже осуществит свое давнее желание пожить в Берлине. Что касается его любви к наслаждению творчеством, которое остается его мукой, но также и единственным счастьем, он будет заниматься им больше, чем когда бы то ни было: он будет творить до своего смертного часа.