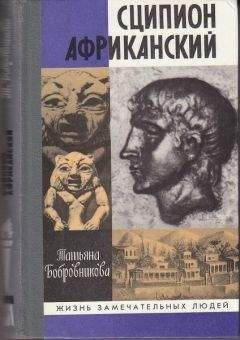А Тит вернулся в лагерь и вошел в палатку консула. Взглянув на него, Глабрион увидел, что он мрачен и озабочен. Не успел консул спросить, что с ним, как Тит воскликнул:
— Маний Ацилий, ты что, не видишь, что происходит, или видишь, но не понимаешь, как это важно для государства?
Маний встревожился и с волнением стал спрашивать Тита, что случилось. Фламинин мрачно отвечал, что консул вот уже очень давно стоит возле маленькой этолийской крепости, потерял массу времени, союзники тем временем захватывают область за областью, а скоро кончается срок полномочий Глабриона. Что он скажет в Риме? Маний смутился. Он признался, что совсем не знает, что предпринять: ведь уйти от стен нельзя, это будет позор. Что же делать? Он настойчиво просил совета у Тита. Тот погрузился в размышления и наконец сказал, что придумал. Он готов выручить Глабриона и великодушно берется докончить осаду сам. Консул горячо его благодарил.
Попрощавшись с Манием, Тит бегом бросился к крепости. На сей раз на стены высыпал весь город. Опять раздались стоны и рыдания. Тит поманил этолян рукой. Через минуту Фенея со всеми членами совета лежал у ног Тита и в слезах молил о прощении. Тит сказал:
— Ваше положение заставляет меня умерить свой гнев и не говорить резко. Случилось то, что я и предсказывал, и вам невозможно даже сказать, что случилось это не по вашей вине. Но по какой-то воле рока я назначен поддерживать Элладу и не перестану оказывать благодеяния даже неблагодарным.
И он заключил с этолянами перемирие (Liv., XXXVI, 33–35). Существует много рассказов о том, как он подобным же образом спасал греческие города то от разгневанных римлян, то от македонцев, то от самих греков. Каких усилий стоило ему спасти Спарту от жестокости ахейца Филопемена! Ибо он считал «своим долгом не допускать гибели ни одного города освобожденной Греции» (Liv., XXXVI, 34). И как он хитрил и изворачивался для этого!
Война в Греции на этом не кончилась. Она продолжалась, то вспыхивая, то затухая, еще много лет. Но и в период смут, и даже когда измученная страна окончательно перешла под власть Рима — никогда не стерся из памяти греков образ их освободителя, этого человека, полного мелких слабостей и в то же время такого мягкого и великодушного. Плутарх рассказывает, что и в его время, через столько веков после смерти Тита, ему поклонялись, как богу, в храмах, пели пеаны и творили молитвы (Flam., 17). «Не будь римский военачальник от природы человеком великодушным, чаще обращающимся к речам, чем к оружию, не будь он так убедителен в своих просьбах и так отзывчив к чужим просьбам, не будь он так настойчив, защищая справедливость, — Греция отнюдь не так легко предпочла бы новую чужеземную власть своей, привычной» (Plut. Flam., 2).
Война в Греции, повторяю, продолжалась, но настоящий наш очерк, посвященный Титу Фламинину, закончен.
Глава III. ВОЙНА С АНТИОХОМ (196–190 гг. до н. э.)
И повторится все, как встарь…
А. Блок
В то время, как Тит и эллины были опьянены счастьем, римляне в городе охвачены были смертельным страхом. Дело в том, что Антиох, царь колоссальной державы Селевкидов, владевший Сирией, Палестиной, Месопотамией, владыка, прозванный за свое счастье и могущество Великим, самый сильный из наследников Александра, двинулся в Малую Азию и перешел в Европу, захватив города, которые очистил Филипп, те самые города, свободу которым объявил на Истмийских играх Тит Фламинин. Но римляне клялись защищать эти города, а это означало, что они должны были вести войну теперь уже с царем Антиохом. А к этому они были совершенно не готовы.
Этого мало. Страшные слухи пришли из Карфагена. Положение в городе было поистине ужасным. Казна истощена, владения потеряны, а римляне требуют огромной контрибуции. Откуда ее взять? Прежде они выжали бы последнее из ливийцев, им прислали бы золота из Испании. А что делать теперь? В довершение всех бед Масинисса, некогда нищий разбойник, а ныне царь великой Ливии, смотрел на Карфаген с ненавистью. Он сторожил пунийцев, как кот сторожит мышь у норки. А у униженного народа не было ничего, даже войска, чтобы защититься. Защитниками их были римляне, которые, конечно, не простили и не простят никогда.
В городе царили смута и взаимная ненависть. Сенаторы проклинали «отродье Барки», Ганнибала, который их погубил. Ганнибал отвечал им ужасными ругательствами и вспоминал, как они ничего ему не присылали, когда он в тоске ждал подкрепления на берегах Италии. А между тем нищая толпа, которую голод и несчастия сделали свирепой, слонялась по улицам, с бесконечной ненавистью смотрела на пурпур и золото богачей и, казалось, ждала только знака, чтобы разорвать их в клочья.
Наконец карфагеняне собрали денег на первый взнос римлянам. Сенаторы с воплями оплакивали потерю золота, царапали лицо и били себя в грудь, глядя, как деньги уплывают в Италию. И тут раздался страшный хохот. Это хохотал Ганнибал. Он простер руку и начал пророчить, как библейский пророк, предрекая, что скоро на голову их обрушатся такие беды, что эта покажется поистине ничтожной (Liv., XXX, 44). Римляне взвесили золото и обнаружили, что оно наполовину фальшивое. Карфагеняне жестоко поплатились за свою хитрость: им пришлось тут же, в Риме, занимать деньги у ростовщиков и, конечно, под чудовищные проценты.
Судьба предлагала теперь Ганнибалу тот же путь, что и его знаменитому победителю: стать во главе народа и пойти против сената. Публий Сципион этот путь отверг, Ганнибал принял. Он стал демагогом,[139] собрал вокруг себя обездоленные массы и повел их против богачей. Он с лихорадочным нетерпением спешил наскоро залечить кровоточащие раны государства, поставить его на ноги и бросить на новую войну с Римом. Но нужны были деньги. И вот Ганнибал находит, где их достать. Он решает изъять их у бывших членов совета, которые успели их награбить, занимая государственные должности (Liv., XXXIII, 47). Но это переполнило чашу терпения правителей государства: они все могли перенести, только не это — когда дошло до денег, они возмутились так, как будто у них отнимали кровное добро, а не наворованное имущество (Ливий). Им стало ясно, что Ганнибала надо убрать. Но как? Выступить против него открыто означало быть растерзанными на улицах города озверевшей чернью. Оставалось одно — донести на него римлянам. И они не остановились перед этим средством.
Карфагенские послы явились в сенат, уверяя, что Ганнибал натравливает народ на Рим и раздувает мятежи (Val. Max., IV, 1, 6). Они почти не лгали, говоря, что Баркид готовит войну: он и не скрывал это и кричал на улицах Карфагена, что деньги нужны ему для борьбы с Римом. Но они еще обвинили его в тайных переговорах с Антиохом, не знаю, истинных или ложных (Liv., XXXIII, 47–48).