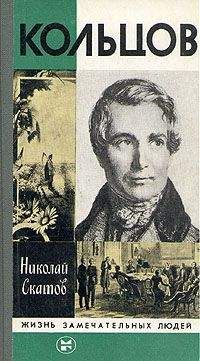Действительно, положение Кольцова в качестве поэта-песенника было во многих отношениях преимущественным и, конечно, внешне и внутренне, в сравнение не шло с положением поэтов, так называемых самоучек, его предшественников (Алипанов, Суханов) или тех, кто шел за ним (даже Никитин, не говоря уже о Сурикове, Дрожжине и т. п.).
Кольцов действительно был самим собою, когда был прасолом-песенником. Но, оставаясь самим собою, он мог и должен был все больше претендовать и претендовал на «литераторство» и «направление», неся в себе такие могучие задатки такого творчества, которые, только начиная пробиваться, уже означали очень многое для целой русской литературы, и ощущение которых родило в нем глубокий внутренний кризис, по сути, благодатный, но оттого ничуть не менее драматический перелом.
Да, Белинский «сбил его с толку», то есть могучим образом способствовал тому, чтобы поэт покинул свою старую и, казалось бы, такую бесспорную позицию прасола-песенника и ушел вперед и выше. Гений Кольцова шел тем единственным путем, каким идет гений: познание всего, желание объять все, пусть и необъятное. А.М. Юдин вспоминает: «Для занятий своих он имел особый, небольшой флигель (это еще до переезда семьи во вновь отстроенный дом. – Н.С.), в котором часто запирался по целым неделям. Одна комната была его кабинетом и спальней. Здесь лежали на столах груды книг в величайшем беспорядке… Кольцов жаждал познаний, он хотел все объять. Я удивился, увидев человеческий череп, лежавший у него в углу на столе».
«Если череп, – прокомментировал когда-то это сообщение де Пуле, – ее странно было бы видеть в кабинете таких литераторов, как князь Одоевский, барон Дельвиг и Жуковский, то нельзя не спросить, зачем понадобилось такое украшение скромной каморке прасола». Опять-таки – то, что позволено Юпитеру (а также князю, барону)… Облик Кольцова – Фауста кажется недопустимым и непозволительным.
Летом 1842 года из Киева приехал в Воронеж В.И. Аскоченский, когда-то в семинаристской молодости знакомей Кольцова и Серебрянского. Кольцов уже был болен. «В августе 1842 года, – вспоминал позднее Аскоченский, – мне привелось по делам службы быть в Воронеже. Улучив свободный час, я отправился к Кольцову, жившему тогда в доме своего отца на Дворянской улице.
– Здесь ли живет А. В. Кольцов? – спрашиваю дворника.
– Здесь.
– А где мне его найти?
– Пожалуйста сюда, они в мезонине.
Иду. Длинная, крутая, винтообразная лестница привела меня, наконец, к уютному жилью поэта. С каким-то тихим замиранием сердца брался я за ручку двери и входил в комнату, где было так много передумано и перечувствовано, где так сильно и звучно билось сердце общечеловеческой любовью.
– Здравствуйте, Алексей Васильевич.
– Здравствуйте, – сказал он удушливым сиповатым голосом. Кольцов был тогда уже в последней стадии чахотки.
– Вы меня ее узнаете?
– Нет, – отвечал он.
Я сказал свою фамилию. Кольцов засуетился, усаживая меня близ столика. Он заговорил быстро, припоминая старину и особенно друга своего Серебрянского. Заметив, что это стоит ему большою груда, я просил его успокоиться и, желая отвлечь от раздражающих воспоминаний, спросил, ну что, как ваше здоровье?
– Слава богу, – отвечал он, опускаясь в изнеможении на кровать: – Теперь мне лучше, а прошлый год приходилось плохо.
– Живите, Алексей Васильевич, для нашей родной литературы. Мы и так уже несчастны, лишившись великою представителя нашей…
– Перестаньте, – перебил он, – итак уже избаловали меня эти неумеренные похвалы наших журналиста, избавьте хоть вы меня от них!
Самое незначительное противоречие могло бы привести Кольцова в болезненное раздражение, а потому я поспешил переменить речь.
– Как же вам живется?
– Хорошо, – сказал он. – Так хорошо… – прибавил Кольцов с грустной усмешкой. – Да, да, да… во мне хотят видеть мещанина, а я прошу всех, чтобы на меня смотрели как на человека… Я им даю факт… Что им за надобность – с неба ди я беру мое вдохновение или от земли.
Удушливый кашель прервал его речь. Я просил его успокоиться.
– Почетное ваше титло, – сказал я, – по которому вас знает Русь, – поэт: всего прочего она знать не хочет: и прасолу Кольцову так же радуются, как и рыбаку Ломоносову.
– Благодарю вас, – сказал он, крепко пожимая мне руку, – мне тут тяжело. Нет человека, который бы подарил меня хоть… одной свежей мыслью… Здесь пустыня… И баран – прекрасное творение божие… он дает волну (шерсть. – Н.С.), мясо… он полезен… но людям унижаться до барана… быть только материально полезными это… это как-то неловко. Они смотрят на меня как на потерянного человека… оттого, что я не приношу им волны и сала… бог с ними! Бог с ними.
Заметив, что и этот предмет раздражает Кольцова, я начал говорить о Киеве. С величайшим вниманием он слушал мои рассказы и несколько раз повторял: как хорошо!.. как хорошо!.. Как только выздоровею, тотчас в Киев, в Киев!.. Мне стыдно… мне грех… я ни разу но поклонился его святыне… скажите, какие там учебные заведения?
Я сказал.
– Боже мой! Как вы счастливы!.. Вы учились (Аскоченский окончил после Воронежской семинарии Киевскую духовную академию. – Н.С.), а мне… бог не судил этого… Я так и умру… неучем…
– Зачем умирать, – сказал я с принужденной веселостью, – выздоравливайте, Алексей Васильевич, да в Киев к нам.
– Да, в Киев, в Киев! – повторил он с каким-то особенным одушевлением, – до Киева ведь ближе, чем до Петербурга?
Комната, в которой принимал меня наш покойный поэт, была очень бедна: стол, кровать, два или три стула и больше ничего. На столе лежала Библия, один том сочинений Жуковского и только в углу на стене висело небольшое распятие из слоновой кости, по сторонам я заметил миниатюрный портрет Полежаева и Пушкина в гробу».
Характерно, что даже у Аскоченского срывается с языка сравнение: Кольцов – Ломоносов. Еще в августе 1840 года Кольцов писал Белинскому: «…Прежде я таки – грешный человек! – думал о себе то и то, а теперь кровь как угомонилась, так и осталося одно желание в душе: учиться…»
Надо сказать, что явление Кольцова и как личности, и как типа творчества явно сыграло громадную роль в понимании Белинским народности искусства и в утверждении им принципа народности. Кольцов был как бы залогом и наглядной демонстрацией живых сил народа. В то же время Белинский, видимо, склонен был только к такой народности явление Кольцова сводить, ею ограничивать. Может быть, потому, что письма Кольцова к нему были личным обращением, Белинскому трудно было взглянуть на них отвлеченным глазом и увидеть в них прозу как таковую. Критик тоже считал, что проза поэту не далась. Потому же, наверное, Белинскому трудно было рассмотреть в этих письмах задатки драматического таланта. Критик полагал лишь, что страстное желание написать либретто для оперы – «дело, к которому он едва ли был способен. Другое дело – к готовому, но голому драматическому очерку написать арии, разумеется, вроде его русских песен». Опять-таки и здесь речь идет о Кольцове только как о прасоле-песеннике. Близкий Кольцовым И.Г. Мелентьев рассказывал, что, когда Кольцов зашел к ним по последнем возвращении из Москвы, его вид, одеянье, особенно потертый картуз и шуба, изумили молодых людей.