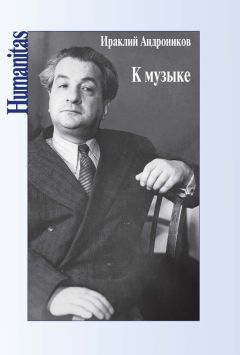Несмотря на задуманные планы и намерения и безусловную необходимость в отдыхе, страстное желание выступить в моей любимой роли на сцене самого значительного французского театра заставило меня утвердительно ответить на предложение импресарио. После короткой передышки в Риме, я отправился в Париж, остановился в Гранд-Отеле и с восторгом и волнением стал ждать начала репетиций.
Моими главными партнерами в опере Тома были Ивонна Галль и Марсель Журне, оба весьма прославленные артисты, что еще больше обязывало меня и в какой-то степени пришпоривало мое самолюбие. Я уже много лет пользовался в Париже определенной репутацией, но успех в роли Гамлета, коронной роли самых знаменитых французских баритонов, явился не только повторением моих прежних успехов, нет, он принес мне такую славу, что после двух, обусловленных договором спектаклей меня пригласили, и не только пригласили, а просили и умоляли выступить еще несколько раз. И хотя я всеми силами противился этому, чувствуя себя более чем переутомленным, пришлось все же согласиться. Но, отправляясь в .театр на третье представление, я вдруг почувствовал, что меня лихорадит. Ко мне пришел Жан де Решке, знаменитый тенор, в доме которого я часто бывал и где меня очень ласково принимали. Я не мог не поделиться с ним беспокойством по поводу своего недомогания и нервного переутомления. «Не думайте об этом»,— сказал он с улыбкой, провожая меня. И прибавил, что теперь я настолько завладел публикой, что могу безнаказанно позволить себе все, что мне только заблагорассудится. Но в действительности все, что я делал во время первого и второго акта, всецело отвечало требованиям публики и высокого искусства, к величайшему удовольствию Райхемана, который не отходил от меня и особенно наслаждался моим успехом, с гордостью ощущая себя организатором спектаклей с моим участием. Но к третьему действию я почувствовал вдруг такую безграничную общую слабость, что стал самым серьезным образом опасаться, смогу ли довести свою роль до конца. В костюме и гриме я по своему обыкновению отправился на сцену, чтобы лично проверить, • все ли в порядке и находится ли каждая вещь на заранее указанном мною месте. Я растянулся на ложе у стола, где начинается сцена с речитативом и следующим за ней знаменитым монологом «Быть или не быть». Помощник режиссера спросил меня, можно ли сообщить в оркестр, что я готов начать. Я попросил его повременить, так как чувствовал себя в состоянии полной прострации. Выпив кофе, я немного пришел в себя и оживился. И вдруг, в то время как взор мой рассеянно блуждал по орнаментам акустического свода огромного театра, я впал в какое-то странное состояние. Я уже не был на сцене, а в глубине зрительного зала и, всматриваясь в зловещую картину сценического действия, видел самого себя распростертым на ложе и спящим при тусклом свете масляного светильника, видел белый череп, поставленный на груду наваленных на столе книг, видел изображения двух королей, моего отца и его брата — убийцу и узурпатора трона. Я уже не был актером, а зрителем и почти критиком самого себя.
Зачем, спрашивал я себя, продолжать этот утомительный путь с тем, чтобы снова и снова повторяться в тех же образах. Произведение искусства рождается в одном единственном творческом акте, и многократное повторение его поневоле приводит к условности, невыносимой для творческой фантазии подлинного артиста. И в эту минуту в сердце моем зародилось желание, и даже не желание, а страстное стремление умереть. Один раз и другой, в то время как я был погружен в эти мысли и чувства, сценариус приходил спрашивать, можно ли начинать, а я один раз и другой просил его немного подождать. И я взывал к тем силам, которые управляют нами, и просил, чтобы в моей жизни была поставлена точка, поставлена сейчас же, и мне было бы даровано высшее счастье умереть, прежде чем снова поднимется занавес, умереть в апогее моего творческого пути. В бредовом возбуждении пожиравшей меня лихорадки я слышал, как вступает оркестр, видел, как поднимается занавес и как в тот момент, когда должен начать действовать актер, все останавливается. Оркестр умолкает, на сцене паника, дирижер, бледный и взволнованный, объявляет о моей скоропостижной смерти. Огромная толпа, вскочившая со своих мест, в полном замешательстве и с сожалением обсуждает трагический случай.
Я все еще пребывал во власти этой странной галлюцинации, когда сценариус объявил мне, что третье действие начинается. Я промолчал. В оркестре зазвучали первые аккорды, занавес поднялся. Снова возникла беспощадная необходимость насыщать творчеством условность драматического искусства. Желая во что бы то ни стало избежать искусственности и добиться наибольшей правдивости, я в своей концепции сценического образа Гамлета пришел к выводу, что первый речитатив возникает в то время, когда Гамлет еще спит, и первые слова: «Я мог уничтожить этого убийцу и пощадил его! Казнить его должен. Чего я еще жду?» произносились мной точно в полусне, как бы во власти мучительного кошмара. А затем Гамлет просыпается, и, все еще переживая появление тени отца, он озирается вокруг, как бы ища исчезнувшую тень в пустом пространстве, и говорит: «А ты пропал уже, о мой отец». И тут начинается монолог «Быть или не быть?»
Никогда, как в тот вечер, когда я мучительно бился между жизнью и смертью, никогда, повторяю, я не выразил с такой правдивостью и мощью смысл несравненного монолога, веками захватывающего и волнующего человеческую душу. Я абсолютно раздвоился. Я на самом деле был Гамлетом. Тем Гамлетом, каким он был выражен Тома в его музыкальной драме, тем Гамлетом, каким его создал Шекспир в его бессмертной трагедии. Но, желая быть до конца искренним, должен сказать, что этот Гамлет был еще и мной самим. Мной со всем опытом прошлого и подавляющими переживаниями настоящего, мной со всем тем, что является характерным для моей личности. И, как мне кажется, с чем-то еще: с чем-то лучшим, что я не могу хорошо проанализировать, но очень хорошо чувствую, с чем-то, хотя и оставившим в неприкосновенности ограниченность и мимолетность моего существования, тем не менее вдруг освободившим его от любых границ пространства и времени и перенесшим его в бесконечность.
Глава 24. В СЕВЕРНОЙ И ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ
Невообразимая реклама. Банкет с целью ее усилить. Первые проявления враждебности. Победа в Филадельфии и Нью-Йорке. Виктор Морель у меня в уборной. Бог голоса. Символическая татуировка. Снова в Аргентине. Буря, бушевавшая двенадцать часов. Тяжелый груз известности
Я начал впервые выступать в Северной Америке в 1912 году.