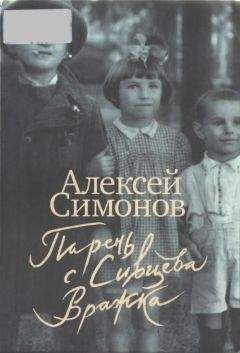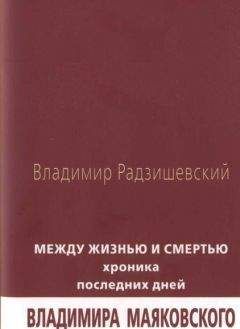— Стоп!
— Еще дубль?! — говорю я Ролану. И тут впервые вижу на его лице тень некоторого сомнения.
— Я-то — пожалуйста, — говорит Ролан. — Вот как насчет Вали?
Направляюсь к Антонычу. Он уже не плачет, но глаза красные и как-то старается держаться от меня подальше.
— Валя, а еще раз? Понимаешь, пленка ненадежная…
Второй дубль мы сняли. И тоже успешно. И только обняв после этого Валю, я почувствовал запах нашатырного спирта…
А дело было так.
— Ты своего друга любишь? — спросил его Ролан. — Ты хочешь, чтобы у него все получилось? — Валя кивнул положительно.— Ты когда-нибудь нашатырь нюхал? — Валя мотнул отрицательно (он вообще воздерживался от лишних слов и жестов). — Вот тут будет лежать вата с нашатырем. Закроешь дверь, прижмешь вату к носу и вдохнешь в себя столько, сколько сможешь. А потом, как дверь откроется, — говори. Только вату спрячь и текст не забудь!
■
Если слова «пустые мечтания» попытаться выразить пантомимически, а пантомиме этой придать еврейский акцент, т.е. достав из-за прорези жилета большой палец, пренебрежительно соединить его с указательным и брезгливо отодвинуть образовавшуюся фигуру с главного направления на периферию, при этом, забыв про пантомиму, добавить пренебрежительное «А!» — это будет точное изображение смысла выражения «А писте халоймэс». Само по себе «халоймэс» в переводе с идиш означает «сны — мечты», оно значилось на борту нашей коллективной «Эмки» все два лета, пока зимой неуклюжий бульдозер, чистивший призаводской двор, не раздавил наш «Халоймэс» в щепки. От яхты осталась запись в регистрационном журнале, гласившая, что «Халоймэс — это греческий бог войны», и песня с припевом «А писте халоймэс», с которой я начал свои записи про Эмку, и тот огромный пласт жизни, который у меня с ним связан.
Отношение к яхте как к особой форме существования у нас с Длинным было сходное, но тем не менее разное. Длинный, всегда стремившийся к совершенству, считал себя обязанным освоить навыки управления яхтой и когда-нибудь совершить путешествие в качестве яхтенного капитана. Я же воспринимал яхту как школу смирения: я готов был выполнить любой приказ капитана, совершенно не имея в виду когда бы то ни было им стать. Поэтому в нашей судовой роли (если выражаться высоким штилем), а попросту в яхтенной жизни — Эмка был первым помощником или матросом первой статьи, а я — коком и замполитом, безо всяких посягательств управлять парусами и стихиями. Словом, у нас с Длинным была почти, а впрочем, почему «почти» — просто идеальная совместимость. Мы любили одно и то же, но разные его части: ну, к примеру, в вобле я любил хребет, а Эмиль — обгладывать ребрышки, я ставить — Длинный играть, я готовить — Длинный мыть посуду, и поверьте — это было счастье, когда быть кухонным мужиком наступала очередь Эмки — вся посуда, включая костровые ведра и котелки, блестела как новенькая. У Эмки не было стремления быть первым, ему больше нравилось быть лучшим, а это совсем не одно и то же.
Я так привык ощущать Эмкино плечо, что это довело меня до членовредительства: я сломал ему ногу. Случилось это в сезон, когда «Халоймэс» был только что раздавлен без шансов на восстановление, а мы яхтенным экипажем были приглашены опробовать только что построенную яхту «Адам». Построил ее наш знакомый — поэт Николай Панченко, строил во дворе писательского дома в Лаврушенском переулке, наращивая борта шестивесельного шлюпа, устраивая в этой надстройке большую каюту, подгоняя под вооружение нашей «Эмки», т.е. под ее мачту и ванты, которые, по счастью, не были уничтожены «могучим ураганом» пьяного бульдозериста. Строил ее Коля с помощью своего четырнадцатилетнего пасынка Никиты — внука Виктора Борисовича Шкловского, на маме которого Коля был благополучно женат в результате эпопеи с выпуском «Тарусских страниц». Редактором сборника по линии калужского издательства, его выпускавшего, и был молодой поэт Панченко. После разразившегося скандала Колю из издательства выперли, зато он обрел на долгие годы замечательную жену, Варю Шкловскую и ее романтического отпрыска, знавшего в свои 14 уже чуть не всю запрещенную или забытую русскую поэзию. Этот его талант отзовется в нашей истории несколько позже.
Строительство лодки было для Панченко опытом новым, а об управлении лодкой он знал больше теоретически, поэтому уж во второй-то части мы твердо надеялись на Валю, который, чувствуя себя виноватым, что не уберег «Халоймэс», был готов к любым жизненным подвигам, но ограничен во времени, ибо жена Антоныча ждала первенца, и пойти с нами в поход он никак не мог. Еще не поставив парусного вооружения, мы перегнали «Адама» из Москвы в Дубну. По дороге эта самоделка продемонстрировала упрямо-угрюмый норов, ибо остойчивость ее была снижена из-за высоты наращенных бортов. Но мы рассчитывали на Валькин высокий класс управления и относились к недостаткам устройства более чем соглашательски.
Поставив «Адама» возле заводского пирса в акватории Московского моря, мы приступили к установлению мачты и другой оснастки. Вооруженный «Адам» напоминал першерона, от которого требовали ахалтекинского галопа, а он этому сопротивлялся. Учитывая, что вес «Адама» превосходил обычный вес «Эмки» тонны на полторы — толстые, из досок борта, восемьсот килограммов свинцовых чушек вместо килевой балки, — мы сразу же приспособили к нему небольшой моторчик, чего никогда не позволяли себе по отношению к настоящим яхтам. Третьим, кроме Эмки и меня, в этот раз шел с нами Игоряша Левин — Эмкин братец. Возились с вооружением долго, все было неуклюже и непривычно, но в конце концов справились, и «Адам» с Колей-капитаном впервые вышел в августовское плавание по островам Московского моря — нашему привычному маршруту. Мотор оказался для такого мастодонта маломощным и время от времени глох, то ли от излишнего напряжения, то ли оттого, что посажен был слишком низко, и любая волна забрызгивала ему свечи, и их надо было вывинчивать и сушить. На подходе к острову Б. у яхты полетела еще и краспица — это такая поперечина наверху мачты, через которую протянуты крепящие ванты. Надо было срубить мачту, чтобы восстановить краспицу. А заодно кое-что понимавший в этом Игорь собирался перебрать мотор — для надежности. Да тут еще дождик пошел. Словом, презрели мы появившиеся за последний год на причале острова Б. предупреждения типа «Чужим не приставать» и пришвартовались к небольшому местному причалу.
Сидим, пережидаем дождик, мачта срублена, мотор разобран, возможность для самостоятельного движения — ноль целых хрен десятых. А сидит «Адам» глубоко, глубже дракона, хотя дракон — килевая яхта, но «Адам» и тяжелее его раза в полтора и, если сядет на мель… сталкивать его — мало не покажется. Сидим в каюте, задраен люк, ничего не видим, только слышим, как два холуйских голоса науськивают друг друга отвязать нашего «Адама», чтобы где не надо не швартовались, чтобы глаза разули, что на причале написано, чтобы наглость свою московскую в другом месте демонстрировали. А поскольку им из закрытой лодки никто не отвечает, то они, заводясь все больше, того и гляди перейдут к действиям. Я сижу ближе всех к люку. Отодвигаю его и вижу, как один из этих самозаводящихся шестерок отвязывает наш конец, а второй намеревается ногой оттолкнуть беспомощную, неуправляемую яхту.