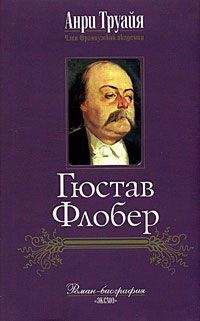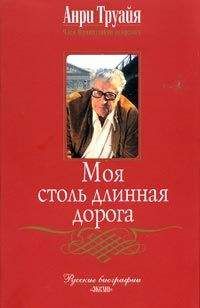В марте «Три повести» отданы издателю. Кроме того, «Простая душа» и «Иродиада» должны появиться одна за другой в «Мониторе» и принести каждая автору по тысяче франков. «Легенда о святом Юлиане Милостивом» будет опубликована в «Бьен пюблик». Вселяет надежду и то, что все больше и больше молодых авторов посылают Флоберу свои произведения. А Виктор Гюго, «великий старик», хочет, чтобы он представил себя во Французскую академию. «Он без конца пристает ко мне с Французской академией. Ну уж нет! Нет!» – смеется Флобер. Книги друзей разочаровывают его. «Читали ли вы „Девку Элизу“ (Эдмона де Гонкура)? – спрашивает он у госпожи Роже де Женетт в том же письме. – Это очень сухо и бледно, „Западня“ рядом с ней кажется шедевром. Ибо есть в этих растянутых грязных страницах подлинная сила и несомненный талант. Появившись после этих двух книг, я прослыву автором для девиц-пансионерок». Закончив исправление корректур, он перечитывает письма, полученные в юности, и сжигает большую часть переписки с Максимом Дюканом. Потом в порыве щедрости и расположения дарит Эдмону Лапорту рукопись «Трех повестей» в сафьяновом переплете: «Вы видели, как я писал эти страницы, дорогой старина, примите же это. Пусть они напоминают вам вашего гиганта Гюстава Флобера».
16 апреля шесть молодых писателей – Поль Алексис, Анри Сеар, Леон Энник, Ги де Мопассан, Гюисманс, Октав Мирбо устраивают в ресторане Траппа обед, на котором официально провозглашают Флобера, Золя и Гонкура «тремя мастерами настоящего времени». «Вот и формируется новая армия», – помечает с удовлетворением Эдмон де Гонкур. Однако Флоберу совсем не нужно стоять во главе «армии». Он – индивидуалист и не может принять роль духовного лидера. Реализм, натурализм – ни одна из этих этикеток не отвечает его представлению о романе. Литературные псевдотеории Золя вызывают лишь его негодование. Одинокий человек в жизни, он хочет быть им и в Искусстве. Таким образом, в течение всего обеда, целью которого было назвать его главой течения, он в который раз убеждается в верности своего нежелания иметь школу.
«Три повести» выходят 24 апреля 1877 года у Шарпантье. Пресса принимает их восторженно, в отличие от «Святого Антония». Эдуар Дрюмон говорит о «чудесах». Сен-Валери в «Ла Патри» – «об удивительном сочетании точности и поэзии». Госпожа Альфонс Доде (которая подписывается Карл Штейн) в «Журналь оффисьель» – «о заслуженном и безусловном успехе». Теодор де Банвиль в «Насьональ» – о «трех абсолютных и совершенных шедеврах, созданных силой поэта, уверенного в своем искусстве, о котором следует говорить только с уважительным восхищением, достойным гения». Последний даже советует членам Французской академии всем корпусом отправиться к Гюставу Флоберу, «чтобы расстелить под его ногами пурпурный ковер». Один лишь Брюнетьер в «Ревю де Монд» смеет напасть на автора, заявляя, что «Три повести» – «самое слабое из написанного им», и видя в этом «знак слабеющего воображения». Это желчное замечание потонуло в криках восхищения «молодежи».
Публика принимает повести более сдержанно. Впрочем, выход книги скрашен политическими событиями. Все взгляды обращены к маршалу Мак-Магону, который только что отправил Жюлю Симону, председателю Совета, письмо, дезавуирующее его республиканские тенденции. Кризис заканчивается назначением 16 мая консервативного правительства, которое возглавляет граф Брогли. Однако общество взволновано. Говорят о предстоящем роспуске Палаты и новых выборах. «Шалости нашего современного Баярда (Мак-Магона) вредят всем делам! Литературе в их числе, – пишет Флобер одному другу. – Издательство Шарпантье, которое обычно продает триста томов в день, в минувшую субботу продало пять. Что касается моей бедной книжицы, то ей не повезло. Мне остается только затянуть потуже ремень».[623] Флобер рассчитывал на хорошую продажу, надеясь выйти из затруднительного положения. Он едва сводит концы с концами, а дела Комманвилей не улаживаются так, как хотелось бы. Таким образом, несмотря на безусловный успех у критиков и писателей своего времени, он заканчивает письмо на печальной ноте: «К неурядицам в общественных делах добавляются печальные личные. Мой горизонт черен». Для того чтобы успокоить себя, есть один метод: работа. Бувар и Пекюше ждут его в Круассе. Он в который раз пытается забыть жизнь в их обществе.
Глава XXI
Возвращение к «Бувару и Пекюше»
Новый сезон в Круассе начинается со вздохом облегчения. «Да, мой волчонок, – пишет Флобер Каролине. – Я так рад, что снова оказался в своем старом кабинете… Вчера вечером я наконец вернулся к „Бувару и Пекюше“. У меня в голове множество хороших идей. Всю медицину можно будет сделать за три месяца, если только я не двинусь с места. Дела, кажется, налаживаются, и, может быть, мы выберемся из стеснения и беспокойства… Как я жалею, котик, что ты в Париже. В Круассе так хорошо! Такой покой! К тому же не надо больше надевать сюртук! Подниматься по лестницам».[624] И некоторое время спустя ей же: «Два дня я усиленно работал. Временами эта книга ослепляет меня грандиозностью притязаний. Получится ли? Только бы мне не ошибиться, только бы вместо возвышенной она не получилась простоватой. И все же нет, не думаю! Что-то говорит мне, что я на верном пути. Но это либо безусловно так, либо совсем наоборот. Я повторяю любимые слова: „О! Мне ли не знать муку созидания“».[625] В июле 1877 года к нему в Круассе приезжает Каролина и «увлеченно занимается живописью». После уроков у Бонна она решила выбрать этот путь и зарабатывать, быть может, кистью, как дядя – пером. Флобер одобряет ее, не слишком в это веря. Несмотря на то что в доме племянница, он не снижает темпа работы. «Жизнь моя (суровая по сути своей) внешне тиха и спокойна, – пишет он принцессе Матильде. – Это жизнь инока и работника. Один день похож на другой; заканчивается одно – начинается другое чтение; белая бумага покрывается чернилами, я гашу лампу в полночь, незадолго до ужина плаваю, как тритон, в реке, и т. д. и т. д.».[626]
В его уединение приходит любопытная новость: королевский экс-адвокат Эрнест Пинар, который обвинял «Госпожу Бовари» в посягательстве на мораль и религию, сам – автор похотливых стихотворений. «Это меня не удивляет, – восклицает Флобер. – Нет ничего более грязного, чем эти представители судебной власти (их гениальное сквернословие для них столь же обычная вещь, как их платье)… Как Пинар мог возмущаться описаниями „Бовари“!»[627] Сильная августовская жара пробуждает в нем слабые сладострастные воспоминания, и он пишет своей дорогой госпоже Бренн: «Как мы далеки друг от друга; я не могу быть ласковым с вами, значит, буду говорить комплименты – та же ласка, только издалека… Вот так. Вы – красивая брюнетка, умная, утонченная, восприимчивая. Мне нравятся ваши глаза, брови, ваша добрая улыбка, красивые ноги и руки, ваши плечи, ваша манера разговаривать, особенность одеваться, ваши черные блестящие, словно у наяды, выходящей из волн, волосы; край вашего платья, носок туфельки, все…»[628] Когда в двадцатых числах августа племянница уезжает на лечение на воды в О-Бонн, он позволяет себе маленькие каникулы и отправляется в Сен-Грасьен повидаться с принцессой Матильдой. Там позволяет себе отдых, рано ложится спать, поздно встает, долго отдыхает после обеда и заканчивается это тем, что начинает смертельно скучать. «Я не развлекаюсь в Сен-Грасьене, отнюдь! – признается он Каролине. – Я ни на что не гожусь, едва меня вытаскивают из кабинета».[629]