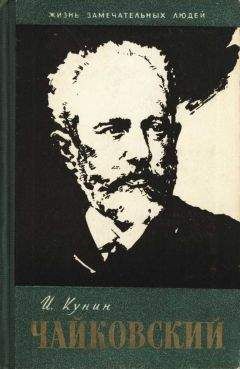Ознакомительная версия.
В первое мгновение этот замысел кажется чудовищным. Неужто к такому завершению вел нас композитор от светлых грез Первой симфонии, через страстный протест «Ромео» и «Франчески», тревоги и мечты Четвертой, гордое страдание Манфреда, могучую попытку преодолеть власть судьбы в Пятой? Уж не вздумал ли автор некстати поделиться с нами своим личным болезненным ужасом перед смертью, навязать его нам по сомнительному праву гения? Вот и Стасов писал о Шестой симфонии: «Она не что иное, как страшный вопль отчаяния и безнадежности, как будто говорящий мелодиею своего финала: «Ах, зачем на свете жил я!..» «Настроение этой симфонии, — продолжает критик, — страшное и мучительное; оно заставляет слушателя испытывать горькое сострадание к человеку и художнику, которому пришлось на своем веку испытать те ужасные душевные муки, которые здесь выражены и которых причины нам неведомы. Но эта симфония есть высшее, несравненнейшее создание Чайковского… Кажется, еще никогда в музыке не было нарисовано что-нибудь подобное и никогда еще не были выражены с такой несравненною талантливостью и красотою такие глубокие сцены душевной жизни».
Верно ли это? Вопль отчаяния и безнадежности, вызванных превратностью личной судьбы, не только не может быть сущностью высшего и несравненнейшего из созданий композитора, но едва ли вообще является сколько-нибудь пригодным для художественного воспроизведения. Иное дело вопль отчаяния, порожденного унижением человеческого достоинства, или народным бедствием, или гибелью великих исторических упований. Здесь отчаяние только ослепительный луч света, только страстная эмоция, озаряющая огромное общечеловеческое содержание и очищенная от своего не совсем достойного, не совсем привлекательного эгоистического привкуса.
Когда же, в таком случае, прав Стасов? Когда он говорит о выражении в Шестой симфонии ужасных душевных мук, вызывающих горькое сострадание к художнику, или тогда, когда называет ее высшим его созданием? А может быть, и тут несравненно талантливое выражение душевных мук не конечная, а только ближайшая задача композитора, за которой открывается почти бесконечная перспектива высоких и светлых мыслей? Есть нелегкий, но, пожалуй, верный способ найти ответ на эти вопросы— вслушаться в музыку симфонии.
Глухой голос фагота неторопливо, словно бы нехотя, как невеселый разговор вполголоса с самим собой, открывает вступление. Сумрачно и покорно звучит он, похожий до боли на полнейшее преклонение перед судьбой в первых тактах Пятой. Мелодия еще более сжата, сведена к простейшему скорбно-усталому звукосочетанию. Легким целящим дуновением плавно нисходящей темы отвечают фаготу альты. И короткое вступление окончено. Меняется, резко ускоряясь, темп, гениально преображается мелодия — та же и не та, такая же скорбная, но полная жизни, тревоги, страстного беспокойства; Она мгновенно приводит на мысль и памятную трагическую фразу из оркестрового ввода к сцене Татьяны с няней, и мучительное томление Германа, его тоскливый укор судьбе («Какой-то силой тайной»), но сама — стремительнее, одухотвореннее и, если только это возможно, богаче содержанием. «Мотив: «Зачем? Зачем? Для чего?» — написал Петр Ильич над схожей темой в набросках неосуществленной симфонии 1891–1892 годов, а внизу добавил: «Начало и основная мысль симфонии»[136]. Но не ошибитесь. Это не робкая мольба и не горький упрек неведомому. Что-то прометеевское, свободное и непокорное даже в миги жесточайшей муки, что-то человечески-прекрасное есть в этой скорбной теме. Чем дальше, тем настойчивее интонация страдальческого вопроса звучит как лихорадочно-одушевленный волевой порыв. Кругом клокочет буря, вспыхивают и меркнут разрозненные фанфары валторн, тяжко вступают, поддерживая тему всей своей медной мощью, трубы и тромбоны. Глубокая неудовлетворенность выступает здесь, как никогда, оборотной стороной могучего творческого порыва, жажды полного, беспримесного счастья вровень человеку. Смолкла душевная борьба. Тишина. И на смену страстно-беспокойному движению возникает прозрачная, плавно нисходящая тема, полная невыразимо грустного обаяния. Словно ласковое дуновение альтов из вступления распустилось теперь цветком мелодии. И снова перед нами гениальное преобразование уже знакомого. Вопрос Татьяны («Кто ты, мой ангел ли хранитель?..») или горестное раздумье Ленского («Что день грядущий мне готовит?») живут в новой мелодии[137], но став еще трепетнее, шире, самозабвеннее и прекраснее. Композитор, с величайшей легкостью создававший все новые и новые, свободно льющиеся мелодии, настойчиво возвращается теперь к своим прежним, уже сложившимся мелодиям-образам и по-новому формует и чеканит их, меняя окраску, углубляя выразительность, подчиняя любимую старую мысль новому, более широкому и гибкому замыслу. Недаром это симфония-итог. Да и сама тема — не воспоминание ли она о былом счастье? То просветленно-грустная, то жгуче и сладко манящая, она бледнеет и растворяется, расточается, как неприметно ускользающие образы сна, когда тяжелый, ошеломляюще грузный удар возвещает возвращение жизненной реальности. Среди всплесков боли, среди бурных протестов звучит как суровое напоминание торжественно-бесстрастная мелодия отпевания «Со святыми упокой». Звучит и тонет в новой, еще выше вздымающейся волне протеста, тревоги, борьбы и страдания. Музыкальное богатство и художественная правда этих эпизодов изумительны. Во всей музыкальной литературе мало таких без слов говорящих звуков, такого кристально чистого выражения поминутно меняющихся и единых в основе чувств, как в Аллегро[138] Шестой симфонии. С какой силой звучит беспощадная правда потерь и утрат в величавом горестном монологе тромбонов! Какой благородной страстностью дышит появляющаяся вновь плавно ниспадающая тема! Какой мужественной усталой примиренностью веет от заключительного раздела!
Если первая часть симфонии ввела нас в сумрачный мир страдания и борьбы, лишь оттененных светлым воспоминанием и радужной мечтой, то вторая часть (Allegro con grazia) [139] — это царство одухотворенной красоты. Чайковский превосходно знал прелесть и скромную поэзию бытового танца, но под пятидольный вальс второй части танцевать нельзя. Это даже не эссенция, не душа вальса, как в Четвертой, это высказанная на звонком языке вальса вдохновенная мысль. Даже вторжение безотрадно-тоскливого гнетущего настроения бессильно нарушить высшую гармонию. Мелодия вальса снова оживает, распрямляется, как примятая трава, снова благоухает в своем упоительном, просветленном изяществе.
Ознакомительная версия.