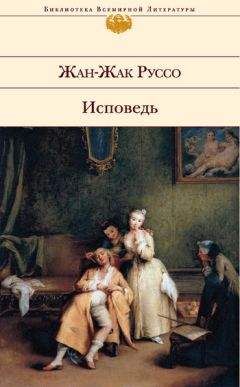Глава VII
Спустя три недели после того, как мы поселились в поместье Establishments, начались дожди. Все эти три недели стояла восхитительная погода; лимонные деревья и мирты все еще были в цвету, и, несмотря на то, что было начало декабря, я засиживалась на веранде до пяти часов утра, наслаждаясь свежим воздухом и комфортной температурой. На нее я реагирую как хороший барометр; едва ли найдется на свете человек, который более нетерпим к холоду, чем я. Никакой восторг от окружающей природы не заставит меня забыть о неудобстве, которое мне причиняет малейшее ощущение холода. Впрочем, ни очарование освещенного луной ночного пейзажа, ни доносящийся до меня аромат цветов, не делали мое ночное бдение каким-то особенно волнующим. Я ощущала себя не поэтом, ищущим вдохновения, а скорее просто человеком, ничем не занятым, который проводит свое свободное время, сидя в задумчивости и прислушиваясь к звукам. Я помню, мне особенно нравилось улавливать и распознавать ночные звуки.
Всем известно, что в каждой стране есть своя особенная гармония, своя печаль, свои громкие крики и свои таинственные шорохи, и этот язык материального мира – далеко не самая последняя, свойственная только этому уголку мира, особенность, среди тех, что так потрясают путешественника. К примеру, завораживающий плеск воды о холодные мраморные стены, тяжелая мерная поступь сбиров (вооруженные судебные и полицейские служители, организованные наподобие войска, в прежней Папской области в Италии. – Прим. ред.), курсирующих вдоль набережной, пронзительный, напоминающий детский плач крик крыс, нападающих друг на друга и дерущихся на скользкой брусчатке, – одним словом, все те загадочные, единичные звуки, которые едва нарушают мрачное спокойствие ночи в Венеции, никак не могут быть сравнимы с монотонным шумом морского прибоя, с окриками часовых quien vive? («Стой! Кто идет?») и унылыми завываниями барселонских serenos. Гармония, присущая озеру Маджоре, совсем не та в сравнении с гармонией Женевского озера. Звук потрескивания сосновых шишек, доносящийся до слуха в швейцарском лесу, совсем не похож на потрескивание шишек тех сосен, что растут среди ледников.
Более глубокой тишины, чем тишина Майорки, нет нигде в мире. Изредка ее нарушает звон ночных колокольчиков пасущихся ослов и мулов, который кажется более тонким и мелодичным по сравнению со звоном колокольчиков коров, пасущихся на пастбищах Швейцарии. Звуки болеро, доносящиеся до самых удаленных уголков, бывают слышны даже в самую глухую ночь, так же как и звуки гитары, которая здесь есть у каждого крестьянина. Сидя на веранде, я прислушивалась к шуму морского прибоя, далекого, едва уловимого; и это напоминало мне несравненные, незабываемые строки из стихотворения «Джинны»:
Мрак слышит
Ночной,
Как дышит
Прибой,
И вскоре
В просторе
И в море
Покой…[9]
С соседней фермы донесся плач младенца, затем колыбельная, которую стала напевать мать, чтобы снова убаюкать свое дитя. В этом красивом народном напеве было столько скуки и печали, а ее мотив был настолько по-арабски мелодичен. Вместе с тем другие, куда менее поэтичные голоса заставляли меня вспоминать о другой, более вульгарной стороне жизни Майорки.
Пробуждаясь, свиньи демонстрируют миру протест в такой истеричной форме, которая не поддается описанию. Под эти самые голоса своих обожаемых чад поднимается фермер, отец семейства, так же как под плач грудного младенца незадолго до этого поднималась кормящая мать. Слышно, как, высунув голову из окна, он громко прочитывает строгую нотацию обитателям находящегося по соседству строения. Поросята, кажется, хорошо усваивают смысл сказанного и тут же затихают; после чего фермер, по-видимому, досыпая, начинает заунывным голосом читать по четкам молитву, отчего она, по мере того как дремота то одолевает его, то рассеивается, становится похожа по своему звучанию на далекую волну, то поднимающуюся, то опускающуюся. Каждый раз, когда дикий вопль поросят доносится вновь, фермер резко повышает голос, не прерывая свою молитву, и понятливые хрюшки, услышав произнесенное на высоких тонах Ora pro nobis («молись за нас» – лат.) или Ave Maria, успокаиваются сию же минуту. Что касается новорожденного младенца, ему ничего не остается, кроме как с широко раскрытыми глазами, прислушиваясь, лежать в колыбели, чьи пределы его мысли, опасаясь неизвестных звуков, пока не покидают и в пределах которой они таинственным образом организуются в интеллект.
Но однажды безмятежные ночи закончились, и начался настоящий потоп. Утром, после продолжающихся всю ночь завываний ветра, от которых сотрясался дом, дождь начал хлестать в окна. Проснувшись, мы услышали шум несущейся воды, прокладывающей себе путь меж камней, разбросанных по всему руслу. На следующий день поток стал нестись с еще большим грохотом, а еще через день он начал сворачивать с места глыбы, которые препятствовали его продвижению. Весь цвет с деревьев облетел, и дождь струями начал проникать в недостаточно хорошо уплотненные щели наших комнат.
Трудно понять, почему майоркинцы не соблюдают практически никаких мер предосторожности против таких бедствий, как шквальные ветры и ливни. То ли из предрассудков, то ли из показного хвастовства, которые им присущи в очень большой степени, они полностью игнорируют пусть редкие, но очень серьезные катаклизмы своей природы. Все эти два месяца, в течение которых мы оставались свидетелями непрекращающегося потопа, местные жители не уставали повторять, что на Майорке никогда не бывает дождей. Если бы прежде мы обращали больше внимания на расположение горных вершин, а также на преобладающее направление ветра, мы бы смогли догадаться о том, какую неотвратимую беду нам предстояло вскоре пережить.
Вдобавок ко всему нас преследовала еще одна трудность, о которой я уже ранее упоминала, когда, забегая вперед, описывала самый конец нашего путешествия. Состояние одного из моих спутников ухудшилось. Будучи человеком ослабленным и склонным к ларингитам, он очень быстро начал реагировать на сырость. Усадьба Сон-Вент (что на местном наречии означает «дом на ветру»), которую мы арендовали у сеньора Гомэза, перестала быть пригодной для жилья. Стены были слишком тонкими, и вскоре побелка в наших спальнях намокла и вся покрылась пузырями. Что касается меня, то я буквально промерзала до мозга костей, чего прежде мне не никогда приходилось испытывать, хотя действительную температуру тех дней отнюдь нельзя было назвать низкой. Для нас, считающих нормой тот факт, что человеческое жилище зимой должно обогреваться, этот дом без камина превратился в облачивший наши тела ледяной саван, и мне казалось, что меня сковал паралич.
Мы никак не могли привыкнуть к удушливому запаху, исходящему от braseros[10] (местной разновидности каминов), и наш больной начал мучиться и кашлять.
С этого времени нас стали страшиться и опасаться все местные жители, считавшие нас жертвами, а следовательно, и переносчиками туберкулеза легких, что, согласно распространенному в испанской медицинской науке мнению об «инфекционности» всех болезней, было для них понятием, тождественным чуме.
Один богатый доктор, который соблаговолил прийти к нам по вызову за умеренное вознаграждение в размере 45 франков, заключил, что он ничего не обнаружил, и поэтому ничего не назначил. За его осведомленность, ограничивающуюся знанием одного-единственного рецепта, мы прозвали его Malvavisco (лекарственный алтей – Прим. ред.).
Еще один доктор любезно откликнулся на нашу просьбу о помощи. Однако аптека в Пальме не располагала даже самыми необходимыми лекарствами; тем единственным, что мы смогли там приобрести, было какое-то отвратительное снадобье. К тому же болезнь стала усугубляться. И никакая наука, и никакой уход были не в силах остановить развитие болезни.
Одним утром, находясь наедине со страхом перед нескончаемостью дождей и мучительным состоянием нашего друга, что имело между собой непосредственную связь, мы получили письмо от негодующего сеньора Гомэза, изложенное в повелительной манере, с соблюдением всех норм официального стиля испанского языка. В нем было заявлено, что нами удерживается лицо, являющееся переносчиком опасной болезни, в связи с чем в его, Дона Гомэза, доме распространяется страшная инфекция, которая может послужить причиной преждевременного ухода из жизни членов его семьи, и, исходя из всего вышесказанного, он просит нас покинуть территорию его усадьбы в максимально ближайшие сроки.
Мы без малейшего сожаления восприняли известие о необходимости нашего выселения, ибо уже решили, что в любом случае мы не можем здесь оставаться дольше, иначе мы рискуем однажды, так и не поднявшись со своих постелей, оказаться утопленниками. Вот только перевозка нашего больного, принимая во внимание доступные на Майорке средства передвижения и преобладающие погодные условия, могла стать для него весьма небезопасной. Следующей проблемой был вопрос, куда податься, поскольку молва о постигшей нас «чахотке» разлетелась в мгновение ока, и у нас не оставалось надежды на то, что нам вообще посчастливится найти хоть какую-либо крышу над головой, даже на одну ночь, даже ценою золота. Мы также понимали, что люди, которые прежде готовы были нас принять у себя, не могут не являться носителями всеобщих предрассудков; к тому же, как только они вступили бы с нами в контакт, их уже не миновала бы угроза изоляции, подобно той, в какой очутились мы. Если бы не французский консул, проявивший чудеса гостеприимства, разместив нас всех в своем доме, нам бы пришлось, следуя примеру истинных богемцев, расположиться табором в какой-нибудь пещере.
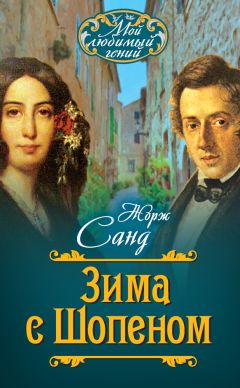
![Жорж Санд - Волынщики [современная орфография]](https://cdn.my-library.info/books/132604/132604.jpg)