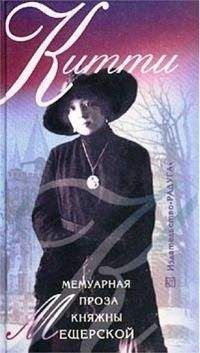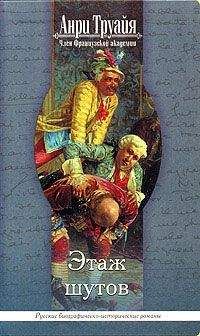Самовар вскипел. Держа его с двух сторон за ручки, мы с Валей внесли его в нашу просторную столовую первого этажа. Я вынула из буфета и постелила на стол нашу лучшую чайную скатерть, вышитую полевыми цветами. Я поставила на стол дорогой, в красивых медальонах гарднеровский сервиз. Валя положила в хрустальную вазу черные ломтики свеклы, заменявшие нам сахар, а страшные на вид, какие-то косматые лепешки из картофельных очистков, обвалянные в отрубях, были разложены на старинном фарфоровом блюде производства завода Попова. Чай из яблочных лепестков был уже заварен, когда «гости» с шумом вошли в столовую и стали рассаживаться за столом. Когда вся их орава спускалась вниз, комиссар Агеев задержался с ними на лестнице. Он, видимо, решил большую часть приехавших с ним отправить обратно в Нару. Мы слышали, как он отдавал своим хриплым голосом следующее распоряжение:
— Неча здесь толкучку разводить. Бери, Семенчук, своих ребят и езжайте обратно в Нару. Без вас справимся, ведь я рассчитывал, што здесь офицерье дворянское, а вишь, оказалось — одни девки… так што езжайте… в районе всякое может случиться, там люди нужнее.
Поэтому за чайный стол сели сам Агеев, два его, видимо, близких помощника и человек с винтовкой, тот самый, что надругался над портретом моего отца. Надо сказать, к «его чести», что эта выходка послужила как бы сигналом для всех остальных. Началось что-то невообразимое: заодно с нашими фамильными портретами были уничтожены портрет М. Ю. Лермонтова в лейб-гусарской форме, портрет Н. А. Римского-Корсакова в форме морского офицера и даже большой ценности акварель Петра Соколова «Фельдмаршал А. В. Суворов». Они были, видимо, тоже приняты за наших родственников, князей Мещерских.
Кроме Агеева, двух его помощников и человека с винтовкой остались еще двое красногвардейцев. Вот все эти шесть человек и сели за стол. Я заметила, что красивая сервировка произвела на всех приятное впечатление. Они щупали руками скатерть и рассматривали чашки. Кроме того, приехавшие не только сняли с себя верхнюю одежду и шапки, но и выразили желание вымыть руки. Тогда мы любезно повели их в умывальную, но они мрачно взглянули на белый мрамор умывальника, на зеркала вокруг и предпочли пойти на кухню. Там, черпая воду из ведра кружкой, они поочередно поливали друг другу на руки и все усиленно сморкались мимо ведра.
…Прошло много лет, прошла вся моя жизнь, но эти события, со всеми их подробностями, так ярки, так живы в моей памяти, словно все это происходило всего какую-нибудь неделю назад. Однако мне запомнились только те люди и те лица, которые были непосредственно с нами связаны и играли какую-то роль в нашей судьбе. Вот почему из товарищей Агеева мне запомнились только человек с винтовкой и штыком, худой, как скелет, со впавшими от чахотки глазами, с торчавшими скулами и надрывным, отрывистым кашлем, который долгими приступами сотрясал этого тщедушного на вид беднягу, да два помощника Агеева — украинцы Колосовский и Фоменко. Остальные двое были просто вооруженными людьми, ничем не оставившими памяти о себе и прошедшими по нашей жизни тех лет в роли обычных статистов.
Колосовскому было, наверное, не больше двадцати пяти лет, это был настоящий красавец, сын Украины; глядя на него, так и думалось, что он герой Н. В. Гоголя Левко из «Майской ночи». Черные, живые глаза его то вспыхивали озорством, затаенной насмешкой, то становились какими-то томными и заволакивались не то ленью, не то негой.
Фоменко уже, наверное, минуло сорок лет, плотный хохол с упрямым, кряжистым, как у пня, затылком, лысый, с широкой грудью римского гладиатора, он казался олицетворением силы и упрямства…
Уже совсем рассвело, наступило утро. День обещал быть очень морозным. Красное солнце, прожигая кучи облаков, поднималось, бросая на снега оранжевый отблеск.
Только теперь подойдя к окну, я заметила несколько розвальней, стоявших возле входа в наш флигель. Лошади, привязанные к стволам деревьев, встряхивая головами, мирно жевали овес в подвязанных к их мордам мешочках. Вокруг дома на снегу тут и там было разбросано вывалившееся из саней сено.
Я спустилась с Валей в кухню, чтобы взять ведра и принести воды, но тут же за нашими спинами мы услышали топот ног. Это был один из конвойных.
— Комиссар зовет! — крикнул он нам вслед.
Сердце мое сжалось. Господи!.. Какая пытка! Зачем еще мы ему понадобились? Неужели опять будет нас гнать из дома разгребать снег на шоссе?.. Мы послушно поднялись из кухни на первый этаж и вошли в столовую.
— Куды же сами-то убегли? — не то насмешливо, не то добродушно спросил Агеев. — Раз самовар нам поставили, значит, и чай с нами пить садитесь. Зовите сюды и третью вашу мамзель, ту… хныкалку!
Пришлось идти на второй этаж за Лелей. Она лежала в крайней комнате, в акварельной, одетая, зарывшись головой в одеяло. От страха ее била дрожь, словно в лихорадке, и слышно было, как она стучала зубами. Она ни за что не желала спуститься вниз. Стоя около нее, мы убеждали ее, как могли:
— Пойми же, их нельзя злить, а отказ сесть с ними за один стол они истолкуют нашей гордостью или, не дай Бог, брезгливостью, и тогда уже нам несдобровать! Пойми и то, что чем больше времени пройдет, тем на большее время отдалится срок трудовой повинности, на которую они нас гонят и на которую, конечно, непременно отправят, если за эти часы их «пыл» не остынет.
Наши доводы в конце концов подействовали на Лелю, и она присоединилась к нам. Не без страха в душе мы все трое появились в столовой, но чем сильнее у меня билось сердце, тем я старалась казаться спокойнее и независимее.
За время нашего отсутствия Агеев освободил за столом три стула для нас. Из саней были принесены мешки с продуктами. Из них извлекались буханки пайкового ржаного душистого солдатского хлеба. Перед каждой предназначенной нам чашкой уже лежало по отрезанному ломтю такого хлеба и по куску сахара. Заваренные нами вместо чая лепестки яблони были, к великому нашему ужасу, прямо в нашем присутствии вылиты из горячего чайника на пальмы, стоявшие в жардиньерках и украшавшие столовую. «Бедные пальмы! — подумала я. — Настал и ваш конец!..»
Зато по всей комнате распространялся запах настоящего душистого чая, который был щедро заварен приезжими. Нам даже предлагали украинское сало, которое небольшими ломтиками отрезал от большого куска Фоменко, но мы наотрез отказались от сала. Ведь настоящий чай с сахаром, вприкуску, и кусок тоже настоящего черного хлеба были в дни голода несбыточной мечтой, и в эти минуты, забыв все свои страхи, мы за чаем запросто разговорились с приезжими.
После нескольких чашек чая они стали мягче, а мы — общительнее, и вскоре уже потекла у нас беседа — если и не совсем дружеская, то, во всяком случае, лишенная всякой неприязни. Нам пришлось снова и снова обстоятельно рассказать о том, как и с кем уехали наши матери. Я сказала, что все сроки их приезда уже прошли, что мы их ждем с минуты на минуту, и опять просила Агеева дать мне возможность дождаться матери, в ее отсутствие никуда нас не посылать.