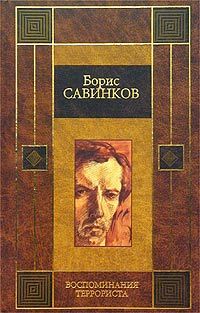24 марта Покотилов приготовил две бомбы и 25-го он и Боришанский вышли от Зимнего навстречу Плеве, но Плеве не встретили. Покотилов вынул из бомб запалы и уехал из Петербурга в Двинск. 29 марта он опять отправился в Петербург и по дороге в вагоне опять случайно встретился с Азефом. Азеф выслушал его доклад о положении организации и остался недоволен. Он пробовал отговаривать Покотилова от его плана, но Покотилов стоял на своем. Тогда Азеф, простившись с ним, поехал в Киев отыскивать нас.
31 марта, ночью, в Северной гостинице, приготовляя во второй раз снаряды, Покотилов погиб от взрыва. Наши бомбы имели химический запал: они были снабжены двумя крестообразно помещенными трубками с зажигательными и детонаторными приборами. Первые состояли из наполненных серной кислотой стеклянных трубок с баллонами и надетыми на них свинцовыми грузами. Эти грузы при падении снаряда в любом положении ломали стеклянные трубки; серная кислота, выливаясь, воспламеняла смесь бертолетовой соли с сахаром. Воспламенение же этого состава производило сперва взрыв гремучей ртути, а потом и динамита, наполнявшего снаряд. Неустранимая опасность при заряжении заключалась в том, что стекло трубки могло легко сломаться в руках.
О смерти Покотилова мы узнали в Киеве из газет. Для нас эта смерть явилась еще более тяжкой неожиданностью, чем неудача 18 марта.
Из нашего запаса динамита, после смерти Покотилова, осталась едва одна четверть. Она хранилась у Швейцера и из нее можно было приготовить всего одну бомбу. Одной бомбы, по нашему мнению, было достаточно для убийства Клейгельса, но нам казалось невозможным убить Плеве с помощью всего одного метальщика. Я посоветовался со Швейцером и Каляевым, и мы решили ликвидировать дело Плеве и предложить Мацеевскому, Боришанскому и Сазонову уехать за границу. Мы, втроем, должны были остаться в Киеве для покушения на Клейгельса.
Швейцер передал оставшийся динамит Каляеву и уехал в Петербург, чтобы сообщить Мацеевскому и Сазонову о таком нашем решении; Боришанский после 31 марта, по собственной инициативе, приехал в Киев. Почти одновременно с ним неожиданно приехал в Киев и Азеф. Встретив меня в квартире ***, он сказал:
– Что вы затеяли? К чему это покушение на Клейгельса? И почему вы не в Петербурге? Какое право имеете вы своей властью изменять решения центрального комитета?
Я ответил Азефу, что мы были уверены в его аресте, ибо только арестом могли объяснить отсутствие его после неудачи 18 марта в Двинске; что без его руководительства мне казалось невозможным убить Плеве; что, в виду этой невозможности, я решил убить Клейгельса; что я был против поездки Покотилова в Петербург и считал его план покушения на Плеве несостоятельным и, наконец, – и это самое главное, – что динамита у нас осталось всего на одну бомбу. Я хотел прибавить также, что неудача 18 марта и смерть Покотилова породили в нас неуверенность в своих силах, и что, в таком состоянии недоверия к себе, едва ли было возможно довести до конца общеимперское дело. Но, посмотрев на Азефа, я не сказал ему этого.
Азеф слушал, по своему обыкновению, молча. По его лицу я видел, что он очень недоволен и нашим решением, и моими объяснениями. Наконец, он сказал:
– За мной следили. Я должен был уходить от шпионов. Вы могли понять это и не торопиться с предположениями о моем аресте. Кроме того, если бы я и был арестован, вы не имели права ликвидировать покушение на Плеве.
Я ответил ему на это, что ни у кого из нас нет террористического опыта; что впредь мы, вероятно, сумеем быть хладнокровнее и не придавать решающего значения неудачам, но что нет ничего удивительного, если покушение 18 марта, предполагаемый его арест и смерть Покотилова заставили нас изменить первоначально принятый план.
Азеф нахмурился еще больше и сказал:
– Люди учатся на делах. Ни у кого не бывает сразу нужного опыта. Из этого, однако, не следует, что нужно делать только то, что легко. Какой смысл в покушении на Клейгельса…
Я сказал, что боевая организация молчит со времени уфимского дела, т.е. уже около года, что с арестом Гершуни правительство считает ее разбитой, и что, если в партии нет сил для центрального террора, то необходимо делать, по крайней мере, террор местный, как его делал Гершуни в Харькове и Уфе.
– Что вы мне говорите? Как нет сил для убийства Плеве? Смерть Покотилова? Но вы должны быть готовы ко всяким несчастиям. Вы должны быть готовы к гибели всей организации до последнего человека. Что вас смущает? Если нет людей, – их нужно найти. Если нет динамита, его необходимо сделать. Но бросать дело нельзя никогда. Плеве во всяком случае будет убит. Если мы его не убьем, – его не убьет никто. Пусть «Поэт» (Каляев) едет в Петербург и велит Мацеевскому и «Авелю» (Сазонову) оставаться на прежних местах. «Павел» (Швейцер) изготовит динамит, а вы с Боришанским поедете в Петербург на работу. Кроме того, мы найдем еще людей.
В тот же день из Петербурга вернулся Швейцер. Он сообщил, что Мацеевский и Сазонов уже продали лошадей и пролетки, и что первый уехал к себе на родину, а второй через Сувалки направляется за границу. Каляев немедленно поехал в Сувалки, чтобы остановить Сазонова на дороге и предложить ему ехать не за границу, а в Харьков, где должны были собраться для совещания почти все члены организации. Швейцер получил от Азефа адрес партийного инженера. С помощью этого инженера он должен был в земской лаборатории изготовить пуд динамита. Задача ему предстояла трудная. Необходимо было незаметно приобрести нужные материалы; необходимо было соблюдать строжайшую конспирацию; наконец, необходимо было мириться с неустранимыми недостатками неприспособленной к изготовлению динамита лаборатории. Швейцер справился со всеми затруднениями. По подложному открытому листу на имя уполномоченного земства он закупил материал, и один, скорее с ведома, чем при помощи вышеупомянутого инженера, приготовил необходимое нам количество динамита. На этой работе он едва не погиб и спасся только благодаря своему хладнокровию. Размешивая желатин, приготовленный из русских, нечистых химических материалов, он заметил в нем признаки разложения, т.е. признаки моментального и неизбежного взрыва. Он схватил стоявший рядом кувшин с водой и, второпях, стал лить прямо с руки, с высоты нескольких вершков от желатина. Струя воды разбрызгала взрывчатую массу, желатинные брызги попали ему на всю правую сторону тела и взорвались на нем. Он получил несколько тяжких ожогов, но дела не бросил и, лишь изготовив нужное количество динамита, уехал в Москву. Там он пролежал несколько дней в больнице. Динамит он привез в Петербург в июне.