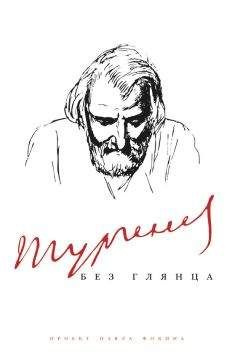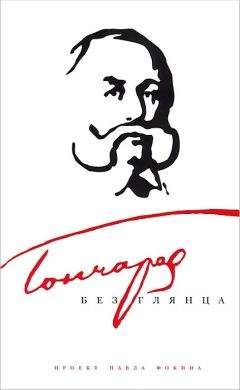– Ваши слова, – сказал я, – поясняют мне тот факт, что ваши характеры обладают ярко определенными чертами, запечатлевающимися в уме читателя. Так было, по крайней мере, со мной. Базаров в «Отцах и детях» и Ирина в «Дыме» так же знакомы мне, как мои родные – братья; мне знакомы даже их физиономии, и я гляжу на них как на старых друзей.
– Так же смотрю на них и я, – сказал Тургенев. – Это люди, которых я когда-то знал интимно, но с которыми оборвалось знакомство. Когда я писал о них, они были для меня так же реальны, вот как вы теперь. Когда я заинтересовываюсь каким-либо характером, он овладевает моим умом, он преследует меня днем и ночью и не оставляет меня в покое, пока я не отделаюсь от него.
Мемуарист Н. М.
«Все мои повести, – говорил он, – или, по крайней мере, детальная сторона их, представляют почти фотографический снимок с того, что я видел и слышал. Я часто соединяю ваше лицо с словами вашего приятеля NN и с жестами Т., но ни того, ни другого, ни третьего не выдумываю, а списываю. После каждой встречи с знакомой и незнакомой личностью я вношу в свою тетрадь все обратившие мое внимание характерные черты наружности и речи моих собеседников. По этим характерным и выдающимся чертам я стараюсь воспроизвести целую фигуру, сливая, где это можно, черты нескольких родственных лиц в одну».
Аделаида Николаевна Луканина (урожд. Рыкачева, во втором браке Паевская; 1843–1908), врач, писательница:
«И я никаких особенных приемов не знаю, – отвечал Иван Сергеевич, – я думаю, что навык приобретается работой. Я скажу вам, как я пишу, то есть писал – теперь я уже давно не пишу ничего. Я делал так: выбрав сюжет рассказа, я брал действующих лиц и на отдельных листках писал их биографии. Затем излагал весь рассказ на двух-трех страницах коротко и просто, ну, как для детей пишут. После этого я уже начинал писать самый рассказ. Из биографий остается очень мало, иногда лица изменяются и по характеру, но такой способ очень помогает. Впрочем, сознаюсь, что постройка повестей, архитектурная сторона их, у меня самая слабая. <…> Затем, когда вы пишете, пишите как можно проще. Мысль может быть какая угодно: чем новее, чем оригинальнее, тем лучше; выражение же ее никогда не должно быть вычурно. Посмотрите у Шекспира: в самых высоких и трагических местах он переходит в прозу. Вычурность, подчеркиванья и т. п. большею частью служат прикрытием пошлости и посредственности. Когда вы переписываете свои работы, вычеркивайте не только неясности, но и все то, что вам самой может показаться слишком красиво, что поражает вас самое. Вы, в сущности, сидите с головой во всем том, что описываете, вы не судья, и если вам что-либо особенно нравится, то это нравится вам, автору; читатель может отнестись совсем иначе, ему нет дела до того, что нравится вам лично». <…>
После этого Иван Сергеевич заговорил о том, как вообще пишет художник и как должен писать ввиду цензуры. Вот какой совет он дал мне: «Пишите так, как вам хочется, не урезывайте себя сами, редактор уже выпустит то, что нецензурно. Художник не должен писать в виду чего-нибудь, он передает жизненную правду; в том, во что она складывается, он не виноват; нечего обращать внимание и на то, что говорит критика».
Павел Васильевич Анненков:
Тургенев обладал способностью в частых и продолжительных своих переездах обдумывать нити будущих рассказов, так же точно, как создавать сцены и намечать подробности описаний, не прерывая горячих бесед кругом себя и часто участвуя в них весьма деятельно.
Генри Джеймс:
Особенно интересны и ценны были замечания и признания Тургенева о методах его творчества. <…> Зародыш повести никогда не принимал у него формы истории с завязкой и развязкой – это являлось уже в последних стадиях созидания. Прежде всего его занимало изображение известных лиц. Первая форма, в которой повесть являлась в его воображении, была фигура того или иного индивидуума, или же комбинация индивидуумов, которых он затем заставлял действовать. <…> Лица эти обрисовывались пред ним живо и определенно, причем он старался, по возможности, детальнее изучить их характеры и возможно точнее описать их. Для большего уяснения себе он писал нечто вроде биографии каждого из действующих лиц, доводя их историю до начала действия в задуманной повести. Словом, каждое действующее лицо имело у него dossier наподобие французских преступников в парижской префектуре. Запасшись такими материалами, он задавался вопросом: в чем же выразится деятельность моих героев? И он всегда заставлял их действовать таким образом, чтобы пред читателем вполне обрисовался данный характер. Но, как говорил Тургенев, его всегда упрекали в изъянах художественной архитектоники произведения, иными словами, композиции, построения.
Лидия Филипповна Нелидова (1851–1936), писательница, мемуаристка:
Он не любил слова «писательница» и говорил, одинаково относя к женщине или к мужчине, что есть «писатель» и у каждого есть муза.
Эдмон Гонкур. Из дневника:
5 мая 1876.
– Мне для работы нужна зима, – говорит Тургенев, – стужа, какая бывает у нас в России, мороз, захватывающий дыхание, когда деревья покрыты кристалликами инея… Вот тогда… Однако еще лучше мне работается осенью, в дни полного безветрия, когда земля упруга, а в воздухе как бы разлит запах вина… У меня на родине есть небольшой деревянный домик, в саду растут желтые акации, – белых акаций в нашем краю нет. Осенью вся земля покрывается слоем сухих стручков, хрустящих под ногами, а кругом множество птиц, этих… как бишь их, ну тех, что перенимают крики других птиц… ах, да, сорокопутов. Вот там-то в полном уединении…
Не закончив фразы, Тургенев только прижимает к груди кулаки, и жест этот красноречиво выражает то духовное опьянение и наслаждение работой, какие он испытывал в затерянном уголке старой России.
Герман Александрович Лопатин (1845–1919), политический деятель, революционер, публицист:
А какая умница был Тургенев! Вы почитайте его переписку с Герценом. Какой проницательный ум! Какое всестороннее, широкое образование! Как знал он литературу не одного своего, но и других народов! Ведь он владел многими языками.
Алексей Дмитриевич Галахов:
Образованием Тургенев несомненно превышал всех своих сверстников-литераторов. Окончив курс в Петербургском университете, он за границей слушал лекции немецких профессоров из школы Шеллинга и Гегеля. Литературы французская и немецкая были капитально ему знакомы. С даром творчества соединялся у него и талант критический, что доказывается суждениями о важнейших поэтических творениях. Мнения его были очень оригинальны, соединяя серьезность немецкой эстетики с ясностью изложения французских критиков.