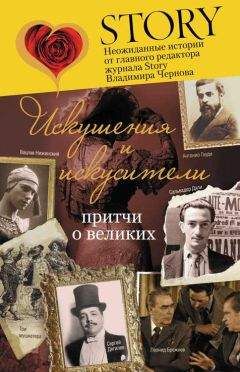Бог ты мой! Как я мог забыть, что одним из самых первых вожделений юной Руденко (добрачная фамилия Галины) было желание стать артисткой! Она признавалась, что ей нравилось быть учительницей, потому что школьный класс ей казался подобием театрального зала, перед которым она являла… школьные литературные образы. Да и в обычной жизни она всегда преображалась, рассказывая – изображая! – даже самые заурядные случаи повседневности. Короче, как нам разъясняли похожую ситуацию в популярной песне братья Меладзе, «она была актрисою и даже за кулисами играла роль, а зрителем был я». Играла роль человека, привычно и спокойно воспринимающего свои столь естественные (!) успехи.
И чему удивляться? Разве я сам перед нею в каких-то случаях не изображал «крутого мэна»? И разве мне это не помогало выходить с меньшими потерями в иных трудных ситуациях? Другое дело – во мне нет ни капли артистических данных, и Галя в моих стараниях в чем-то превзойти самого себя наверняка видела мою бесталанную игру. Но никогда, никогда это не показала. Настоящая женщина.
Ну а я? Всю жизнь помня, что живу со стихийной актеркой, и питая расположение к этому ее свойству, именно в этом вот пунктике жизни – моей причастности к ее писательскому существованию – позабыл о столь явной ее черте. И теперь знаю почему. Этот пунктик был для меня слишком жгучим. На нем мое чувство юмора испарялось.
Да, вот оно, еще одно подтверждение старой истины: мы знаем только то, что ничего не знаем. И не о чем-то там хитромудром, а о людях, с которыми живем. Именно об этом и писала сестре Галина еще в одном своем донесении о нашем московском житье-бытье. Ее простодушному признанию придает ценность то, что оно принадлежит уже признанному мастеру своего дела, пользуясь выражением Юрия Олеши, «инженеру человеческих душ».
Тут нужно пояснить. В Москве жили близкие родственники Галины – тетя, сестра ее мамы, с мужем. Ируся и дядя Коля, крупный стройбанковский финансист (начальник Управления финансирования строительства предприятий химической, нефтяной, газовой промышленности) и ответственный прокурорский чин. Но главное было в другом. Ируся и дядя Коля были страстными поборниками коммунистической идеи, а мы приехали в столицу уже завзятыми антисоветчиками в душе. А тут еще август 68-го… У всех нас хватило ума соблюдать внешнюю благопристойность. Но… Все девять лет, пока Галина безуспешно осаждала редакции издательств и журналов своими повестями и романами, наши «старшие» совершенно искренне считали ее тунеядкой. «Кто тебе сказал, что ты писатель? – терпеливо поучала племянницу Ируся. – Ты сначала заработай хорошую пенсию, а тогда уж и пиши что твоей душе угодно».
Однако все наши идейные да и вообще любые противоречия смехотворны перед лицом времени. Пришла пора ухода старших. У Ируси она была тяжелой, с переломом шейки бедра. Дядя Коля прожил без нее два года. Мы, понятно, их обихаживали, как могли, и проводили с миром и… любовью. Спросите: откуда она взялась? От знания. Вернее: от познания. От познания определенного, единичного человека. Смею предположить (и тут, думаю, многие со мной не согласятся, но это так), таким познанием даже близких людей мы, как правило, не обладаем.
…Вот оно, письмо Галины.
«Последнее время стал сдавать дядя Коля. И то, что он позволяет приносить себе молоко, хлеб, – доказательство тому. Ему помощь извне дается необычайно трудно. Я же ловлю себя на странных чувствах – посещения его даются мне легче, чем покойного Ф. Он контактен, чистоплотен, абсолютно в здравом уме, много читает из моих рук, а главное, политически не агрессивен. То есть просто старый старик, которому помогать не противно, а даже приятно. Господи! Каким же персонифицированным злом он был для меня когда-то. Я же помню это очень хорошо. А вот сейчас, Люка, ни одна струна не вздрагивает во мне старым гневом. Я его просто жалею. А вот Ф. раздражал невероятно своей злобой, ненавистью.
Мы не знаем ни себя, ни других. Я в этом убедилась еще на одном трагическом примере. Помнишь такого, Л.Б.? Две недели назад он повесился в своей лондонской квартире. Абсолютно благополучный, удивительно уравновешенный, имеющий, с моей точки зрения, все, он, оказывается, был глубоко несчастен. А уезжая, звонил, беспокоился о Щербакове, который искал тогда работу, а надо было – как я теперь понимаю – говорить о нем самом. Вспоминая этот звонок, а он звонил и Катьке (наша дочь. – А.Щ.), задним числом соображаю: он прощался.
Ну и что такое это наше знание о людях? Да ничего! Понять бы себя, но и тут сплошная топь…
Будете смеяться, но я тут, по случаю, стала читать Коран. И он мне понравился! Никакой агрессии, никакой ненависти, мягкая такая мудрость. Никаких призывов к газавату.
Да! Еще одна подробность к тезису о непознаваемости человека. Наш любимый Рязанов, не сносив башмаков, стал вводить в свет новую будущую жену. Да я разве против? Конечно, надо жениться, ведь не старик еще, мужик! Но неужели, неужели нельзя было удержаться от гласности? Даже не от совместного проживания, черт с вами, а от введения в круг новой партнерши, не дождавшись даже полугода? Пожилые дамы в шоке, а я все о том же – ничего не знаем, не дано знать о другом.
А я о себе еще добавлю: я к этому незнанию всегда еще прибавляю собственную фантазию о человеке, а потом разбиваюсь мордой об то, что было под моей фантазией.
Ну, ничего, дорогие, ничего! Главное же, процесс… Процесс постижения собственной дури и исторжения ее».
Ну да. Вот только знать бы, что есть дурь, а что не дурь. Наша привязчивая, возможно, врожденная суеверность («в литературе оказалась нужна – тьфу! тьфу! тьфу!») – уж точно не разумность. А вот вечно исходящая от пишущего тревожность, смутность, неуверенность ни в чем («Это ничего не значит. Журнал может полюбить другого, а изд-во может лопнуть», «А вот это никто не проверял. Может, их куда-то увозят на макулатуру»), в которых мы существовали со дня ухода Галины с государственной службы? Избавление от этой круглогодичной нервической дрожи пришло лишь на тот малый, описанный мной промежуток предзакатного душевного покоя, который воспринимался как нечто райское. А теперь я думаю, да нет, скорее уверен в этом, наше умиротворение было знаком завершения: исполнено предназначение, судьба Галины состоялась. И она была угадана – в том числе мною – верно, в соответствии с провидением, со знаками высшей силы, расставленными на нашем скоротечном пути.
Но если такое завершение равно покою, то что тогда это – вечно мучившие нас тревоги и смятения, казавшиеся помехами жизни и капризами несовершенных божьих тварей? Не есть ли это порождение тех же импульсов, которые называются творческими, то есть единственными, способными создавать? И тогда – те тревоги и смятения не напрасны?..