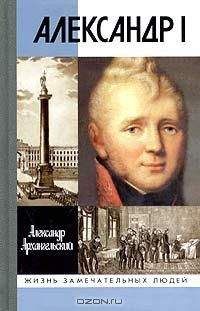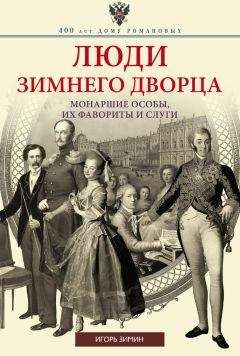Единственное оправдание нарушению закона Лагарп видит в борьбе за свободу. Поэтому восстание гладиаторов он извиняет: «Пчела впускает свое жало в угрожающую ей руку, и муравей язвит попирающую его пяту», а жертвоприношения, совершавшиеся германскими племенами, не то чтобы одобряет, но относится к ним с пониманием: «…такое бесчеловечие вполне извинительно, ибо оно обрушивалось на похитителей лучшего человеческого блага — свободы и независимости». По той же причине законно какой-то запредельной человеческому пониманию законностью и убийство Цезаря.
Следует ли из того, что Лагарп — сторонник народоправления? Ничуть. Народоправство в его исторической системе — худший из типов государственного устройства; только ограниченная монархия уравновешивает требования свободы, с одной стороны, и законности — с другой. Однако в его описаниях «идеального» «ограниченного монарха» едва заметно проступают какие-то иные, «немонархические» черты. Но о них мы скажем чуть позже, а пока задумаемся о другом.
В том, что Лагарп желал добра России, сомневаться не приходится. Но применялся ли он, составляя план воспитания, к реальности державы, в которую попал? Не только к ее привычкам, но и к ее культурно-государственной традиции, и к ее облику: беспощадной протяженности, разнородности культурных укладов, «мирному сосуществованию» средневекового строя монастырской жизни, «допетровского» патриархального крестьянского мира и утонченно-новоевропейских привычек придворного круга? Помнил ли, чем кончились для нее не столь уж исторически давние реформы патриарха Никона, верные по существу, но не примененные к российским обстоятельствам?
Судя по всему, Лагарп представлял положение страны в общих чертах; видел, что миновать освобождения крестьян не удастся; понимал, что грядущее царствование обречено на проведение законодательных реформ. Но, кажется, не понимал разницы между Северной Америкой и Россией. Между культурно-историческим пустырем, где, прежде чем начать строительные работы, достаточно начертить «комплексный план застройки», и древним государственным ландшафтом, где необходимо либо вписывать «новострой» в сложившуюся систему, осторожно расчищая место для него, либо рушить все до основанья, а уж затем приниматься за дело.
Он исходил из благих пожеланий, он внушал своему воспитаннику те же мысли, какие лицейский профессор Куницын будет позже внушать лицеисту Пушкину и какие этот лицеист вложит в оду «Вольность»:
И днесь учитесь, о цари:
Ни наказанья, ни награды,
Ни кров темниц, ни алтари
Не верные для вас ограды.
Склонитесь первые главой
Под сень надежную Закона,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.
Но достаточно представить себе Россию конца XVIII века, чтобы понять: страшно далека она от Закона! Не кодифицировано право, не проведена черновая работа по составлению Свода законов и их полной ревизии, сосуществуют взаимоисключающие правовые нормы… Ограничение царской власти — прекрасно как идеал, важно как некая политическая перспектива, необходимо как смысловой итог многолетних преобразований. Но в разнородной стране, раскинувшейся так далеко, что до 30-х годов XIX столетия ни один член царствующей фамилии не пересек границ Уральского хребта и Сибири, централизованная власть — неизбежность, и ограничение ее без хорошо продуманной замены (а не подмены в виде специфического русского парламентаризма) есть не отказ от самовластья, но лишь ограничение ответственности монарха в пользу придворной безответственности. И самое главное: начинать в России реформы с конституционного «небосвода», а не с решения крепостной проблемы, не с грешной земли,[34] было все равно, что «делать пением лодку», с помощью не укорененных в бытии юридических заклинаний пересоздавать живую жизнь.
«Лагарп видел, что его старания приносили плоды. Братья в своих детских играх создали себе идеальное, вымышленное существо, названное ими графом де-Сент-Альбаном (comte de-Saint-Albant). Этот граф был у них всегда во главе их солдат и их воинственных игрушек; он был центром, вокруг которого вертелись все политические соображения, ибо Французская революция, которая была в то время в полном разгаре, составляла постоянно предмет толков при дворе и возбуждала их молодые умы. Великий князь Александр ставил этого графа де-Сент-Альбана во главе всех революций, народных восстаний, всех предприятий, направленных против власти, и всегда награждал его. А Великий князь Константин приговаривал его к повешению или расстрелянию. Эти мелочи были весьма знаменательны и обрисовывали характер этих двух детей; из них один проявлял свои врожденные чувства, а другой высказывал те убеждения, которые ему внушали».[35]
1789 год. Утопия. Революция…
А если уж предлагать воспитаннику именно такой путь, то следовало бы указать на рычаг, способный перевернуть российский мир; следовало бы определить силу, которая способна была бы восполнить ограниченность монаршей власти. Не абсолютная монархия, не народоправление… Что же?
Позже, уже в царствование Александра II, ответ будет найден; впервые в русском политическом лексиконе появится слово «гласность». Опора — как бы даже и помимо воли императора — будет сделана на пробуждение к жизни общественного мнения, и цепь великих реформ, безупречно логичная в своем поступательном движении, хотя и преисполненная роковых компромиссов в содержательной части, хотя и предельно запоздавшая, начнет выстраиваться. Сначала Великая крестьянская 1861 года, затем Великая судебная 1864-го. И дальше — путь к самоумалению власти, к конституции; путь, оборвавшийся именно потому, что историческое время было уже упущено в эпоху первого Александра.
Но «глас народный» в Лагарповой системе никакой роли не играет; больше того — монарший наставник страшится общественного мнения. И тут мы наконец понимаем, какие черты проступали сквозь начертанный Лагарпом образ «идеального монарха», верящего в безусловную силу Закона, оправдывающего ярость толпы, если она направлена против «богоустроенной» (а не заслуженной личными доблестями) власти и железной рукой ведущего вверенное ему общество к царству свободы путями необходимости.
Это черты диктатора. (Естественно, в том мягком смысле, какой придавал этому слову XVIII век.)
Случайно ли, что в 1798 году, став после антибернского восстания руководителем Швейцарской директории, сверхлиберально настроенный Лагарп немедленно ввел жесткую цензуру, изгнал Лафатера, в 1799 году уничтожил Совет, чтобы стать консулом (то есть маленьким швейцарским Наполеоном), объявил всю Швейцарию военным лагерем, каждого ее жителя — солдатом и, в полном согласии с утопией Платонова «Государства», запретил театральные действа, ибо театры неуместны, когда кипит война? Случайно ли, что, после поражения и изгнания приехав в Россию (август 1801-го) и вновь застав любимого воспитанника между молотом и наковальней, на сей раз — между «екатерининскими стариками» и «молодыми друзьями», боровшимися за сферы влияния, он посоветовал — не отказаться от планов самоограничения власти, не поменять стратегию, сосредоточившись на земельных проблемах, не апеллировать к мнению несановных дворян, а затаиться. Вести свою линию втайне, за плотно прикрытыми дверями секретных комитетов. И главное — заняться реорганизацией «властных структур»… (То же советовал и граф Аракчеев.)