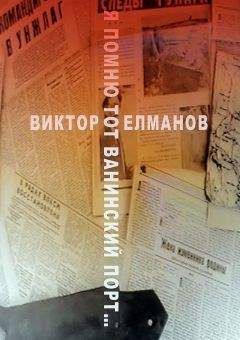Я перерисовывал старинную Испанию, а вокруг были северные бараки, жуткие, страшные. Везде были маленькие огородики, которые служили в том числе и отхожими местами. Иногда казалось, что люди вообще гадили где только можно, только бы не было видно голого зада. И все время холод. И все время голод.
Но мы пережили и эту зиму, и наступило лето 1944 года. И для того, чтобы вернуться, нужно было получить своеобразный «вызов» от кого-то, кто оставался там, иначе было нельзя. С моим отцом у нас были очень плохие отношения, их почти не было, но он всю блокаду провел там, в Ленинграде. И он прислал вызов — возможно, в надежде с нами вновь объединиться. И тогда мы снова отправились в путь.
Возвращались мы снова в теплушках, но сравнительно налегке, потому что у нас уже ничего не осталось, все было обменено на еду, на картошку. Ехали долго, голодно, но это было неважно, потому что мы возвращались домой.
Я не могу сказать, что в эвакуации скучал по Ленинграду, — я был ребенком, а ребенок адаптируется ко всему. Но я, конечно, вспоминал город. У меня всегда была очень хорошая зрительная память, так что я многое помнил. И вот мы возвращались, и я как бы проверял свои воспоминания.
На подъездах к Ленинграду все было разворочено — очевидно, это были места боев. Причем разворочено совсем недавно, в этих воронках еще не успела пробиться трава. Мы ехали и ехали вдоль выжженной земли, мимо каких-то сгоревших остовов. Медленно-медленно двигались вперед. Нас было много в вагонах, семьи с детьми, и я снова не помню, что мы ели в пути. И вернулись мы в Ленинград 22 июня, очень символично. Три даты в моей жизни — начало войны, возвращение из эвакуации и возвращение из лагеря, и все они — в двадцатых числах июня.
Мы вернулись и поселились в своей квартире. Она была целая, но занятая. В нашей квартире жил, во-первых, бабушкин брат Кирилл Ерофеич. Не помню, это его настоящее имя или, как было принято в еврейских семьях того времени, ему это имя придумали. Я уже писал, что он в отличие от брата был полный ноль. Настолько, что даже не скажешь, добрым он был человеком или нет. Гаврюшенька был добрым, правда, не со всеми. С кем нужно он мог быть жестоким, вернее, твердым. Про Кивушку такого не скажешь. И вот, значит, Кивушка поселился у нас, когда отцу дали его комнату, и жила Варятка, Варварка, жена Гавриила. Еще ее сестра жила — неприятное существо, даже не верилось в ее существование. И еще посторонняя соседка в одной из комнат. Так что квартира, в общем, была занята. Я не помню, знали ли они о нашем прибытии или нет. Потому что почта работала. Как ни странно, я никогда не слышал каких-либо нареканий на работу почты. Очевидно, почта — это единственное, что у нас работало добропорядочно. Во время войны это было очень важно.
Когда после эвакуации мы вернулись в Ленинград, на Марата, у меня появилось очень странное чувство — мне все казалось маленьким. А минут через пятнадцать все приобрело свои истинные масштабы. Я рассказал об этом отцу, и он ответил: «Погоди, вот подрастешь, и весь мир покажется тебе очень маленьким». Не знаю почему, но я запомнил эти его слова на всю жизнь.
Было лето, и было солнечно. Мама снова пошла в «Интурист», где работала до войны. Почему-то около года она числилась там поваром, но это неважно, все равно она свою переводческую работу делала. А мне нужно было поступать в школу. И откуда-то мама узнала, что в СХШ, Средней художественной школе при Академии художеств, производится набор. Это была школа и с общеобразовательными предметами, и со специальными. Академия тогда была еще в эвакуации, в Самарканде. А небольшое количество учеников СХШ уже вернулись в Ленинград. На основе этих вернувшихся учеников школу и пытались возродить.
Когда кончилась война, было тепло и светило солнце. Все ожидали этого конца войны, никакой неожиданности не было. Каждый понимал, что, наверное, сегодня или завтра объявят. Помню, что почему-то пошел по Невскому. Дошел до Дворца пионеров и зашел в него, просто так, потолкался там. И все. Было спокойно, все шло своим чередом, люди были на работе. Все были к этому готовы. Это не было так же неожиданно, как объявление войны: «Вероломно враг напал».
Первое время очень лояльно относились к союзникам. В каждом киоске продавалась маленькая газетка, один разворот, называлась «Британский союзник». И там, где у нас орден Ленина и написано «Известия», у них были изображены два солдата, черно-белые, с тенями, — американский солдат в каске и британский. Наверное, до середины 1946 года эта газета продавалась, потом исчезла.
И еще помню такой эпизод. Когда с фронта начали возвращаться наши солдаты, зачем-то на Дворцовой площади, которая тогда называлась площадью Урицкого, выстроили несколько полков, лицом к Зимнему дворцу Много-много шеренг в той форме, в которой они вернулись, — обшарпанной, грязной, мятой. Как они пришли с фронта, прямо с оружием, так их и выстроили. И туда пришло очень много народу. А рядом с Зимним дворцом стояли низкие фанерные трибуны — сейчас трибуны выставляют только по праздникам, а тогда они стояли там все время. И я, как и многие, пристроился на этих трибунах. Долго, часа полтора, чего-то ждали. Никаких оркестров, начальства нет, а солдаты все стоят и стоят. А в тот день было очень жарко. И они вдруг начали с себя снимать каски, скидывать гимнастерки. И еще были цветы — им все время несли цветы, букеты ромашек. От жары стал плавиться асфальт. Солдаты каблуками сапог начали прилипать к этому плавящемуся асфальту, и тогда они стали класть на асфальт цветы и вставать на них. Потом уже приехало какое-то начальство, что-то там началось, не важно. А после всего этого несколько дней шли дожди, а на площади работали какие-то бабы, выковыривали из асфальта цветы.
В то время было очень много салютов, еще во время войны это началось. Городок какой-нибудь освободили — салют. И на набережную высыпал весь город, не только молодежь, особенно перед Зимним дворцом. А салютовали с Петропавловки. Но салюты были небольшие, скромные, потому что техника и пиротехника тогда все-таки были примитивными. Но все равно, конечно, радость.
Осенью начали восстанавливать Зимний дворец. Угол, который выходит к Дворцовому мосту, был огорожен фанерой, и крыша была сделана тоже из фанеры. И туда, на этот отгороженный участок, свалили цемент, прямо так, без мешков. И как раз был салют. Люди облепили набережную, заняли проезжую часть, потому что тогда машин не было, только если НКВД кого-то ехал арестовывать. Начался салют, трахнул выстрел, и люди, которые радостно сидели на крыше, повалились в цемент. Почему-то этот ерундовый эпизод мне запомнился.