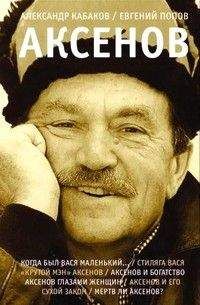Е.П.: Да. И одноклассники его совершенно не чурались, хотя прекрасно знали, что его матушка уже в магаданской тюрьме, в «доме Васькова». Вот почему он столь ярко, хотя и неоднозначно описывал гэбэшников и «сталинских палачей», вообще всех, кто связан с репрессивными органами…
А.К.: Я все пытаюсь представить себе хоть кого-нибудь, кто поехал бы доучиваться в школе к матери на каторгу.
Е.П.: Но Евгению Семеновну к тому времени уже отпустили.
А.К.: Это неважно. Кто ж по доброй воле из гражданских ехал в Магадан: из Казани, из Москвы, из Ленинграда — откуда угодно? Кто ехал в Магадан? В Магадан везли! Странная судьба! Странная судьба…
Е.П.: Песня у Высоцкого была:
Мой друг уехал в Магадан.
Снимите шляпу, снимите шляпу!
Уехал сам, уехал сам,
Не по этапу, не по этапу.
А.К.: Ну, это уже шестидесятые. Хрущевская вольница.
Е.П.: А что тут, собственно, странного? Сидела бы его мать в Таджикистане, он в Таджикистан бы поехал. В Норильске — в Норильск.
А.К.: То есть он уже в шестнадцать лет принимал ГУЛАГ как часть своей жизни, как объективную реальность.
Е.П.: Я его как-то спросил: а как он в Казани отвечал на вопросы любопытствующих детей, где его родители? Вася втюхивал одноклассникам, что родители в длительной командировке на Севере. Помнишь «Судьбу барабанщика» Гайдара? Там у пионера Сережи отца, старого большевика, посадили, а мальчику сказали, что за растрату…
А.К.: А еще «Чук и Гек», помнишь?
Е.П.: Тоже подозрительный сюжет для эсэсэсэрии тридцатых годов. Мама с деточками живет в Москве, а папочка у них на далеком Севере, геолог, видите ли, в тайге. И они к нему едут на поезде через всю страну.
А.К.: В ссылку они к нему едут. Как наш Вася к маме.
Е.П.: Вот именно.
А.К.: Врастал. Это моя идея фикс. Аксенов врастал в страну, в народ. Он проникал, по всем линиям, повсюду проникал. Вот почему он и писатель такой. Не певец города, но и не писатель — чистый деревенщик. Не совсем писатель-модернист.
Е.П.: Не писатель чисто интеллигенции…
А.К.: А еще про него многие годы говорили, что он — молодежный писатель. Какой на хрен молодежный, если он до семидесяти пяти лет писал? Причем и про молодых, и про своих ровесников, и про стариков, которые живут триста лет. Молодежный? Нет. Народный? Нет! Интеллигентский? Нет. Он — просто писатель, каковым и должен быть настоящий писатель. И сформировало его таким — детство.
Е.П.: Детство и отрочество.
А.К.: Пожалуй, да. Юность у него была уже другая. Юность его писательская не очень-то отличалась от юности, например, Анатолия Гладилина, кумира второй половины пятидесятых. Недаром Василий Павлович и Анатолий Тихонович подружились. А что — московская молодая богема, бунтари! Но какое разное, подчеркиваю, у них было детство!
Е.П.: А вот с Трифоновым интересно получилось у Аксенова. Познакомились они как писатели, а подружились из-за общности судеб. Оба — дети репрессированных. И у Окуджавы отца расстреляли.
А.К.: А у многих других пишущих все складывалось куда благополучнее. Ну, например, у Роберта Ивановича Рождественского, когда-то известного не менее Аксенова. Понимаешь, многие люди, несмотря на то что в нашей стране творилось черт знает что, прожили в общем-то нормальную жизнь. И детство у них был нормальное. Никакое.
Е.П.: И когда я в «Бочкотаре» читаю полубредовый монолог Володи Телескопова, я вижу, что это невозможно написать, не проживши такую жизнь, как Вася…
А.К.: В том-то и дело.
Е.П.: Помнишь то место, где Телескопов хвастается, что когда он читал Есенина, то главбух рыдал? Так и видишь этого главбуха, расконвоированного в том же Магадане, где его некогда встретил школьник Аксенов и запомнил на всю жизнь. Пьянь и рвань декламирует «Не жалею, не зову, не плачу», растроганный главбух вспоминает всю свою несчастную жизнь…
А.К.: Я тебе скажу вот что: из меня вдруг лезут слова советского учебника литературы — «он вышел из гущи народной». Ты совершенно прав, не придумаешь ни с того ни с сего такую фразу. И не придумаешь, что плакал не кто-нибудь, а именно главный бухгалтер. Подобное нужно не один раз увидеть, услышать. С пьянью этой пожить надо, эта пьянь — люди, а не просто некая странная массовка, понимаешь? Надо угадать судьбу этого главбуха. Почему он в зэках выбился в придурки, а не застрял на общих работах? Подлец ли он? Если подлец, то почему прослезился, да? Это все надо видеть, это… Вася родился сразу в своей стране, не чужой. Не было бы писателя Аксенова без этого знания! Многие писатели, даже очень хорошие, страны не чувствуют, понимаешь? Не стану называть фамилий. Не из трусости умолчу, а потому, что это получится как бы в укор вполне уважаемым мною личностям.
Е.П.: Да и не надо. Я и так догадываюсь, кого ты имеешь в виду.
А.К.: И тут речь не идет о прозаиках, единственным достоянием которых был членский билет СП СССР. Те про людей вообще не писали. Я имею в виду, что они не писали о советских людях, пока эти люди еще существовали. О советских людях во всей их красе и о бочкотаре, которая у них «затоварилась, зацвела желтым цветком, затарилась, затюрилась и с места стронулась»… Но и многие люди с крупным писательским даром страну не чувствуют. Или не чувствуют своей. А Вася чувствовал. Хотя и был почти двадцать лет официальным советским писателем, а потом вообще эмигрантом.
Е.П.: Официальным — да. Но советским ли?
А.К.: Быстро же ты все забыл! А кем еще мог быть тогда официальный писатель, если не советским? Советский писатель со склонностью к инакомыслию, стандартный посетитель ЦДЛа, отдыхающий в Дубултах и Коктебеле, время от времени милостиво отпускаемый начальством за границу. «Ожог», ты скажешь? А кто тогда «Ожог» в стол не писал? Каждый советский писатель имел в столе свой «Ожог», включая деревенщиков и борцов «за возвращение к ленинским нормам».
Е.П.: Ну, допустим. Но откуда такая цифра — «почти двадцать лет»?
А.К.: Знаешь, когда он перестал быть советским писателем? Когда возвратил свой писательский билет в 1979 году в знак протеста против вашего с Ерофеевым исключения. Семьдесят девятый минус пятьдесят девятый равняется двадцать лет. Пятьдесят девятый — год его первой публикации.
Е.П.: И все-таки я думаю, что он, обладавший при Советах официальным признанием и неслыханной популярностью, всегда помнил бабушкин завет. Он мне рассказывал, что бабушка частенько говорила сыну, то есть Аксенову-отцу, нечто вроде: «Ты, Павлушка, высоко-то не возносись, падать больно будет». Ты представляешь, как вся эта деревенская аксеновская родня гордилась тем, что Павлушка — начальник Казани?