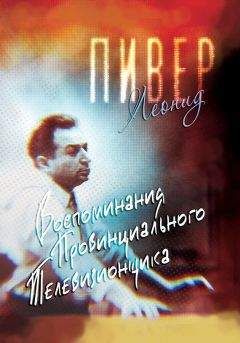– Это невозможно, – готов закричать я. – При лунном свете такого темпа не бывает!
Это я знал точно – на основании личного опыта. Между тем пианист, демонстрируя спортивный характер, догоняет ушедшего в отрыв солиста. А скрипач играет так, будто запустили магнитофон на повышенной скорости. Глаза – безумные, пот – ручьями…
– В чем дело? – не пойму я.
Не понимают ничего сидящий рядом ассистент, звукорежиссер. А Жук все ускоряет темп, ускоряет…
– Это уже неприлично, – мелькает у меня мысль.
И тут маэстро завершает исполнение.
Даю заставку.
– Что произошло? – недоумеваю я.
Наш оператор Игорь Бузуев сидит взмокший, смеется, тоже ничего не понимая.
… Объяснилось все просто. Дежурный электрик, сменяя коллегу на посту, сверила свои часы производства родного челябинского часового завода, в качестве которых была уверена, с электрическими часами в студии, в надежности которых сомневалась. И выяснила, что те отстают от ее собственных. Обеспокоенная, она из служебного помещения стала дистанционно переводить стрелки электрических часов… И в этот момент лауреат престижных международных конкурсов, бросив взгляд на студийные часы, увидел жуткую картину: маленькая стрелка почти оседлала шестерку, а большая неумолимо двигалась к роковой цифре двенадцать. В гениальной голове, очевидно, проскочило несколько тактов свиридовского «Время, вперед!», а в его ушах звенели не только звуки ноктюрна, но и дружный хор наших голосов:
– За нами – Москва! Нас уволят! Ужас!
И он вообразил, будто так погрузился в атмосферу «Бергамасской сюиты», что время пролетело незаметно. Однако «Лунный свет», написанный в 1890 году, под впечатлением, как полагают специалисты, одноименной поэмы Поля Верлена, был доигран до последней ноты!
После этого случая у музыкантов вошло в обиход выражение:
– Он играет Дебюсси в челябинском темпе!
…С тех пор прошло более полувека. И время, как я теперь убедился, летит быстрее скорости света. Не прав был великий физик!
А Валентин Жук ныне – профессор Амстердамской консерватории, продолжает концертировать, ведет мастер-классы.
Однажды в город приехал солидный симфонический оркестр: большой состав, музыканты – во фраках, дамы – в концертных платьях. Лакированные туфли, изящные босоножки – в общем, торжество высокого стиля.
Нам предстояло транслировать концерт из большой студии в прямом эфире. В звуке мы к тому времени немного поднаторели – не было опасения за его качество. В студии поставили разновысокие станки, чтобы музыканты не сидели в одной плоскости.
Вот оркестранты заняли свои места. Ударная группа оказалась выше всех. Операторы наконец-то узнали, как выглядят литавры! Наши старания были оценены – ведь у каждого из артистов появился шанс мелькнуть в кадре. Вышел дирижер – началась репетиционная работа.
И незаметно подошло время выхода в эфир. Диктор объявляет:
– Начинаем концерт симфонической музыки!
– Дайте общий план! – прошу я оператора, поскольку «общак» – традиционная преамбула подобного рода трансляций.
Дают общий план. На мониторе я вижу оркестр, первую скрипку… И вдруг замечаю у этой скрипки что-то белое на ногах.
Говорю оператору на параллельной камере:
– Покажи ноги первой скрипки, пока мы не в эфире!
Тот укрупняет ноги… Боже! Скрипач сидит в китайских кедах!
Что делать? Эфир уже начался!..
Так весь концерт и прошел на среднем плане… Ну, не мог я дать общий, потому что кеды и симфония – дисгармоничны!
После трансляции рассказываю о музыканте в кедах дирижеру.
– Хорошо, что он был не в тапках! – говорит дирижер. – Музыкант-то, как говорится, в возрасте, с ногами – проблемы: до концерта в кедах и расхаживает. Видно, собирался переобуться, да забыл!
Пообщавшись с дирижером, спрашиваю оператора:
– Ты-то видел белые тапки? Почему ничего не сказал?
– Леонид Григорьевич, – слышу в ответ, – я посчитал, что по кедам дирижер определяет, где сидит первая скрипка!
Думаете, оператор пошутил? Ничуть не бывало!
В начале 70-х годов в Челябинск приехал симфонический оркестр под управлением Евгения Мравинского, народного артиста Советского Союза. Концерт должен был состояться в зале оперного театра.
Евгений МравинскийКонечно, на выступление всемирно известного маэстро попали не только истинные любители музыки, меломаны, которых я и сейчас встречаю в храмах классики. В первых рядах сидело местное руководство, полезные люди, многих из которых я узнавал, надеясь, что и они узнают меня… Еще бы: мне выпало счастье транслировать такой концерт! Мы установили микрофоны, расставили камеры. И, когда настраивали аппаратуру, я подумал: хорошо, что концерт проходит не в зале филармонии, расположенном рядом с трамвайными путями. Если бы Мравинский выступал там, то на дирижерский пульт, рядом с клавиром, следовало бы водрузить расписание движения городского электротранспорта, чтобы, независимо от партитуры, в момент прохождения трамвая звучало форте. Потому что иногда там получался концерт для симфонического оркестра с трамваем.
Ну, а в оперном театре, с точки зрения трамваев, все было нормально. Зал по акустике – просто уникальный. Наш зал.
И вот первые такты симфонии. Оркестр звучит так, что слышно каждое дыхание… Кажется, зал просто замер. И вдруг… страшный грохот раздается в эфире. Я кричу оператору:
– Что случилось?
– Не понимаю! – слышу в ответ.
А шум продолжается, и уже все начинают обращать внимание. Оператор поворачивает камеру, и я вижу рядом с микрофоном, точку установки которого так долго искали, девочку, которая, удобно устроившись в кресле, достала шоколадку и, в предвкушении ребячьего счастья, зашуршала фольгой.
– Покажи ей кулак! – командую оператору.
Тот беспрекословно выполнил команду. Девочка, испугавшись, стала стремительно заворачивать свое шоколадное сокровище. И снова в эфир «полился» скрежет, только еще большей частоты! Ребенок-то торопился…
Трансляция, конечно, продолжалась. Но спустя несколько дней на студию стали приходить письма… И тогда, возможно впервые, мы поняли, что такое «возмущенный зритель».
– Это был оркестр Мравинского? – спрашивали меня потом.
– Да!
– А откуда шла трансляция?
– Из листопрокатного цеха! – отвечал я.
И спрашивающие всепонимающе кивали.