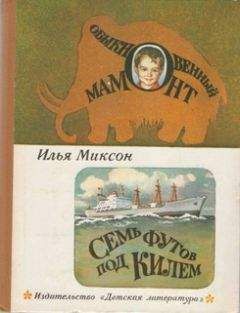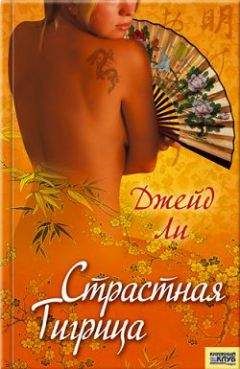Почти вся энергия уходила на игры, которые менялись в зависимости от сезона, но иногда происходило кое-что из ряда вон выходящее. У Кермита был читательский билет, и я решил, что мне срочно надо получить такой же. Поскольку я пошел в школу, то мог записаться в библиотеку на углу 110-й улицы и Пятой авеню, куда отправился жарким весенним днем. Меня поразило, что внутри было темно и прохладно. Розовощекая дама, перегнувшись через полированную конторку красного дерева, задавала вопросы тихим, заупокойным голосом, и мне показалось, что здесь совершается некое таинство, своего рода священнодействие, которое можно нарушить, если громко заговоришь. Я приподнялся на цыпочки и на ухо стал шептать ей в ответ: имя, домашний адрес, сколько лет, номер школы, как зовут маму — Августа. В этом месте у меня внутри похолодело, потому что дома маму все звали Гэсс или Гэсси, поэтому получалось, будто я немного приврал и что-то скрываю. Дошла очередь и до отца. Такого подвоха я не ожидал, пребывая в радостном возбуждении, что приду и сразу получу заветный билет, как это произошло с братом. Теперь настал мой черед прощаться с детством. Глядя в ее голубые глаза, я никак не мог выговорить «Исидор» — слишком это было еврейское имя. И, потеряв дар речи, только мотал головой. «Как твоя мама обращается к папе?» Это была ловушка. Улыбка сползла с ее лица, как будто она обо всем догадалась. Мои щеки пылали. Я не мог произнести: «Изя» — и еле слышно прошептал: «Изь…» Она удивленно переспросила: «Изь?..» Я кивнул. «Что значит „изь“?» Я выскочил на улицу и через несколько минут уже гонял с ребятами мяч или играл в ступбол, пытаясь обвести противника, чтобы точным ударом попасть в стенку.
В школу меня определили в шесть лет, и я знать не знал ни о каком антисемитизме. Если бы меня это интересовало, я бы, наверное, решил, что все в мире евреи, кроме полицейского Левши и нашего Микуша. Ползая по полу, я изучал чужие ботинки, холстинную обивку дивана, латунные ролики рояля. За несколько лет вобрав в себя двухтысячелетнюю еврейскую историю и став ее частью, я занял отведенное мне в эпосе место, о существовании которого не подозревал. Эдакий крепкий комочек на поверхности американского плавильного котла. Выражаясь современным языком, я был запрограммирован на иное, нежели гордиться своим происхождением, и это вопреки кажущейся авторитетности отца и легкости, с которой он останавливал такси и разговаривал с господином Микушем, способным бурого медведя вогнать в дрожь. В отце была какая-то особая обстоятельность, возможно, связанная с тем, что большой рост, светлая кожа, голубоглазость, квадратная голова и рыжие волосы делали его похожим на важного ирландского детектива. Гуляя с ним в парке за руку, я часто замечал, что стоило отцу остановиться и бросить случайный взгляд, как игра на деньги прекращалась сама собой. Его безукоризненно обслуживали в ресторанах — стоило ему только махнуть рукой, как официант вырастал будто из-под земли. Он не смущаясь мог возвратить не приглянувшееся ему блюдо, но делал это без суеты. Зная его прошлое, оставалось гадать, откуда в нем эти величественные замашки. Он даже слушал и то по-особому, не подавая виду, но так, что человек сам прекращал привирать. Открытый спокойный взгляд его наивных голубых глаз заставлял неуверенных в себе людей покрываться пятнами. Хотя он, наверное, удивился бы, скажи ему, что он носитель моральных устоев — отец, пожалуй, и слов-то таких не знал. Жизнь была слишком тяжелой, чтобы люди могли позволить себе проявлять бескорыстие, что не в последнюю очередь касалось отца. И все-таки я унаследовал от него ощущение, что принадлежу к меньшинству. Он практически никогда не говорил на эту тему, только раз дал совет. Мы шли по 110-й улице, он держал нас с Кермитом за руку. Впереди толпился народ — на проезжей части случилась авария. Мы бросились, чтобы посмотреть, он слегка одернул нас и сказал: «Бойтесь толпы». И ничего больше. Но этого, пожалуй, было достаточно.
Не думаю, что страх, обуявший меня перед лицом библиотекарши, был связан только с отцом. В отличие от матери, склонной считать евреев людьми более тонкой организации, а то и морали, что постоянно приводило к досадным недоразумениям, отец всегда бессознательно противился их идеализации. Порой, когда на маму в очередной раз накатывало восторженное настроение, он раздражался, качал головой и начинал подтрунивать над ее простодушием. Однако это не мешало ему чувствовать себя уверенным в своих силах. Мой дед по линии матери Луис Барнет как-то предостерег меня, чтобы я не ходил под большим светящимся крестом, который нависал над тротуаром у входа в церковь на Ленокс-авеню, а если пройду, то сплюнул, чтобы очиститься. Я долго не мог спокойно ходить мимо этого креста, опасаясь главным образом, как бы он не рухнул мне на голову. В подобных предостережениях не было никакой религиозной или исторической подоплеки, только предрассудок или скрытый символ угрозы.
Люди вообще не хотели искать рациональных объяснений тому, что было связано с верой. Это чувствовалось даже у учителя древнееврейского языка, приходившего к нам с Кермитом несколько раз в неделю, чтобы готовить нас к bar mitzvahs[2], до которого еще оставались годы. Система обучения у бородатого патриарха была крайне механистичной: он произносил слова на иврите, а мы должны были за ним повторять. Текст из Книги Бытия сопровождался столбцом перевода на английский, но как с того английского перевести на свой английский «твердь небесная»? Хуже того, стоило мне без ошибок прочитать какой-нибудь отрывок, как старец лез лобызаться, вызывая ощущение, будто я попал в розовый куст. Однажды он наклонился ко мне и, смеясь, больно ущипнул за щеку, назвав «цадик» — «мудрец», — ни до, ни после я так и не смог разгадать, чем заслужил такой комплимент. Приходилось собирать волю в кулак, чтобы казаться вежливым, когда появлялось это заросшее волосатое существо. Уроки проходили уныло и бестолково, но я протестовал скорее из духа свободолюбия — занятия по музыке мне были не менее ненавистны, как и другие препоны на пути скорейшего волшебного осуществления задуманного. Когда скрипка столь же необъяснимо и загадочно, как призвание быть на вторых ролях, оказалась «моим» инструментом, мама нашла учителя, и тот, бедолага, одолжил мне небольшую скрипочку, чтобы можно было начать заниматься. Но выяснилось, что резиновый мяч под гул струн хорошо отскакивает от ее корпуса, так что я отправился во двор играть ею в теннис, пока шейка не треснула у меня в руке. Мама аккуратно сложила куски в футляр и возвратила инструмент учителю, а я опять вернулся к своим прогулкам во сне, что было намного интересней учебы. Поэтому истоки внезапного страха, обуявшего меня, когда я взглянул в доброе лицо библиотекарши, таились глубоко внутри, и можно только догадываться, как упорно и настойчиво я отвергал то, что долетало до моего слуха, когда ползал по полу, — чужие рассказы, реплики, испуганные голоса неумолимо подталкивали меня в осажденную зону, за чертой которой обитали одни немилосердные чужаки.