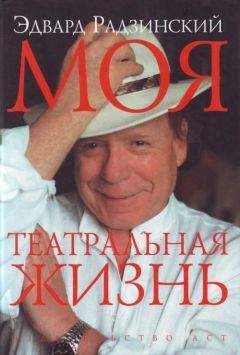Ознакомительная версия.
Я помню, как второй режиссер (который репетировал мою пьесу, прежде чем пришел главный) объяснял мне, что ужасней человека, чем главный режиссер, быть не может… Он — чудовище, которое вскоре придет и присвоит плоды его труда.
Я честно возненавидел главного режиссера. Когда буквально через два дня увидел, как они… мирно шли в обнимку и беседовали. Нет, нет, он тогда не лгал. Просто тогда это было тогда, а сейчас — это сейчас. Театр — это сейчас, это — мгновение.
И еще меня потрясла одна вещь, которая и в дальнейшем меня будет очень удивлять. Дело в том, что во время самой первой читки пьесы актерами как кто читал, так потом и играл. Кто читал хорошо, он и будет играть хорошо, кто читал не очень, он и будет играть не очень… несмотря на все многомесячные репетиции.
Итак, спектакль вышел. О нем было написано много хвалебных статей. Никогда в дальнейшем обо мне не будут так писать… и никогда у меня не будет такого провала!
Дело в том, что взрослые зрители, купив билет, сидят себе и смотрят на сцену, нравится им или нет. Ну не нравятся — уйдут в перерыве. Или досидят тихонечко, да еще похлопают благодарно в конце. Но мерзавцы-дети безобразно искренни. У них все понятно.
Успех сказки у малышей, например, определялся количеством выжатых тряпок. Когда добрую девочку Машу злая Баба-Яга заталкивала в печку, дети от страха не выдерживали… И чем больше было этих мокрых тряпок, тем оглушительней считался успех.
У меня были зрители постарше. Но и они бывали совершенно захвачены происходящим на сцене, хотя здесь уже обходилось без тряпок.
Но, не дай вам бог, если они не были захвачены!
Я это понял уже на первом представлении. Мой герой, который в самые трудные моменты разражался монологами, вместо того чтобы колоть шпагой, им явно не понравился. Как и положено в XVIII веке, он часто «призывал в свидетели небо», и они быстро прозвали его «астрономом». Так что во время действия они в голос решали задачки и обменивались рассказами совсем не о моей пьесе. Апофеоз наступал перед последней картиной. В ней разоренный Лебедев горестно прощался с любимой Индией. Чтобы в последней картине приплыть в Россию…
Но встретиться с родной землей ему удавалось с трудом. После сцены прощания с Индией, решив, что пытка наконец-то закончена, юный зал дружно вскакивал и бросался к выходу. Но у дверей их ждала отважная «педагогическая часть» театра. Немолодые дамы мужественно сражались, отправляя их обратно. Но большинство все-таки пробивались в желанный гардероб.
Четырнадцать раз я выходил на сцену Театра юного зрителя раскланиваться с вмиг пустеющим залом.
Пятнадцатого не было. Пьесу сняли.
И вот тут бы мне и закончить. Я думаю, это был намек судьбы. Но в театре есть одна беда. В него очень трудно прийти, но уйти из него невозможно. Вы тоскуете по этому фантастическому миру, где все мираж, все представление, и все — «гениально!».
И я продолжил писать пьесы. Я писал пьесы, относил их в театры.
Пьесы нравились, но… ставить их почему-то не хотели. И тем не менее о моих пьесах стали знать. В газете «Советская культура» в обзорной статье о драматургии даже было напечатано об этих пьесах.
И Виктор Борисович Шкловский насмешливо сказал: «Вы заметили, что у вас уже слава, правда, она — подземная».
Но эта слава уже не радовала. В это время у меня уже была семья, должен был родиться ребенок. Мы снимали комнату и жили на подачки от родителей.
А я по-прежнему писал пьесы, которые никто не хотел ставить. И близкие смотрели на меня уже выжидающе — когда же, наконец, я займусь делом!
Единственным моим заработком были информации в московских газетах «Вечерняя Москва» и «Московская правда».
— Ну-с, какой у вас сегодня опус? — спрашивал заведующий отделом информации, читая мои очередные перлы:
«Поздней ночью на улицы Москвы выезжают белоголубые машины, разбрасывающие в обе стороны мощные струи воды. Это машины Второго механического парка… Алеют на Доске почета имена передовиков…» и т. д.
— Этот ужас мы берем. В нем необходимая краткость… а она, как известно, главная сестра таланта… Сеструху напечатаем… А вот другой опус, про ткачиху с «Трехгорки»… как ее по батюшке… для нас велик. Так что возьмите сей опус и суньте его в ж… -с.
Я тщательно проверял свои опусы. Я очень боялся допустить ошибки в фамилиях передовиков. Но заведующий успокаивал меня:
— Не волнуйся. Если мы вставим в твои опусы матерное слово, все равно никто не узнает… нас ведь никто не читает.
Но читал я. Каждое утро я мчался к газетным стендам — считать, сколько опубликовано моих строчек; сколько я за них получу.
«Ну не могу я этого прочесть!»
И свершилось! Подпольная слава помогла! Однажды мне позвонили из Радиокомитета и предложили инсценировать для радио роман, который получил тогда Государственную премию.
С каким восторгом я согласился!
Роман оказался о Гражданской войне. Это был обычный тогдашний графоманский роман на нужную тему, написанный одним из секретарей Союза писателей. При этом роман был необыкновенной толщины.
Назывались подобные сочинения: «секретарская проза».
Я пролистал его и пошел на встречу с автором.
Как и положено, жил он в писательском доме. Хозяин встретил меня в халате. Мне дали чай с бубликами.
Он задал мне несколько вопросов. Я отвечал уклончиво. И он грозно сказал:
— По-моему, вы не читали моего романа. Идите! Идите и прочтите мою книгу! Книгу, которую вам поручили инсценировать!
Я честно прочел треть. Но осилить роман до конца было выше моих скромных сил. И, пробежав глазами остальное, опять отправился к нему.
Он вновь встретил меня в халате. Но чай на этот раз был без бубликов. Он сразу начал с расспросов. Спросил меня о судьбе героя-командарма.
Я рассказал. После чего он поинтересовался некими любимыми им деталями. Они оказались для меня непосильными.
Он сказал:
— Идите и читайте мою книгу!!
Я был почти, как его командарм. Я совершил подвиг — прочел необъятную графоманщину до половины. И остальное внимательно просмотрел. Мне очень нужны были деньги.
… Он сидел в ненавистном мне халате. Мне не дали чая. Я не успел сесть, когда он сурово спросил меня о судьбе какой-то девушки по имени Клава.
Я понял, что погиб. Но решил нагло отвечать. Там вроде была какая-то очень героическая девушка. И, когда я вдохновенно начал, он сказал:
— Никакой Клавы там нет вообще. Вы опять пробежали мой роман — мой труд! Вы в третий раз так и не прочли!
Ознакомительная версия.