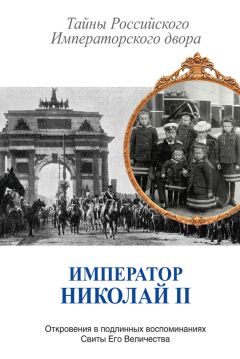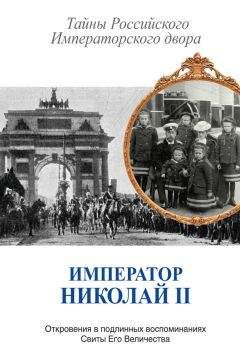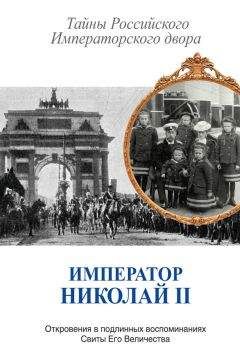Юлия напоминает, что христианство – это религия любви вне всякой морали или цели, политической или общественной:
«Бог христиан – Бог любви… […] На этом представлении Бога не безличной и не пассивной Первопричиной, a Активным Добром, Вечным Источником беспредельной любви к Своему творению – на этом понятии зиждется все христианское миросозерцание. Божественная любовь идет навстречу человеку, призывает его к Себе; она не ждет от него служения Себе, a изливается на него вечной благодатью и просветляет его. Вот основа отношений человека к миру и его Творцу по христианским воззрениям. И к человеку предъявляется одно лишь требование – любовь к благому Творцу и ко всему сущему. Любовь к ближним является тут не столько предписанием морали, сколько необходимой ступенью на пути отречения от мирского для погружения в созерцание Божества» (с. 197–198).
Чтобы вновь обрести эту сущность христианства, не следует ограничиваться каноническими текстами:
«Наряду с целой литературой позднейших Евангелий, Деяний и Актов и т. д. являются указания на древнейшие сборники, как Евангелие Египтян, Евреев, 12-ти Апостолов, быть может, но уступающие по древности каноническим (таково было веское мнение Оригена). Сочинения Иустина, Климента Римского и Александрийского, Варнавы, всех первых писателей, проповедников, апологетов и толкователей христианства пестрят ссылками на апокрифы, лишь частью до нас дошедшие. […] Оттого ныне наивно представлять себе возможным познание Христа помимо его последователей, познание Евангелия помимо апокрифов, познание духа христианства помимо христианской Церкви. […] Мистические запросы нам чужды, и потому непонятно нам христианство, недоступна восторженная духовная свобода, некогда возвещающая мистическим учением для чуткого духа» (с. 195–197).
Юлия Данзас видит в гностицизме борьбу за то, чтобы связать христианство с мистикой Востока, против «наивной и буквальной» «иудеизации» христианства:
«Проповедь аскетизма, столь чуждая еврейскому духу, была унаследована от изможденных восточных созерцателей. С Востока сошло представление о Творце, вечно Сущем в каждой крупице Своего Творения, представление, медленно расплывающееся в оттенках пантеизма Оригена или Татиана. С Востока – вечный символический культ Девы, в котором человечество излило свой порыв к отрешению от скверны мира, свою тоску по неземной чистоте, культ, настолько родственный человеческому духу, что даже в Европе он пережил упадок христианства, он нашел себе храм даже в иррелигиозном искусстве с его идеалом загадочной Мадонны – материнства, освобожденного от грязи и недоумевающего над собственной тайной. С Востока – древняя мечта человечества об облагорожении собственного сознания до обожествления, о мистическом слиянии человечества с Божеством, мечта, нашедшая в христианстве свое полнейшее воплощение и в нем слившаяся с древней, как Восток, идеей искупления…» (с. 208).
Но «седая мистика Востока была затоптана человеческим стадом, а с ней и светлая мечта о дивном, загадочном учении, которое вместило бы общечеловеческие таинства и символику всех племен, и все порывы человеческого духа, и всю жажду познания, и всю тоску искания смысла, и весь гнет мировой скорби, и все смутные неугасающие надежды человека, и всю горечь отрицания жизни, и вечное искание истины и чистоты» (с. 211).
«Вся Реформация была грандиозной попыткой обновить религиозную жизнь, без понимания ее мистической сути. […] Оттого, как ни тяжки грехи католичества перед человечеством, оно силой одного лишь мистицизма, в нем удержавшегося, жизненнее и глубже своего старого противника, пошедшего по пути сухой догматической житейской мудрости и узости пуританизма. […] Вернуться к букве христианства немыслимо, и в надежде на такое возвращение – ошибка протестантства. Да христианство никогда и не жило по букве: оно было по существу отрицанием писаного закона, призывом к внутренней жизни и к пренебрежению внешними условиями. […] От буквы христианства мы далеки. Но еще дальше мы от его духа и его мистической сути. Мертвящая популяризация сделала свое дело, и радость посвященных сменилась тупым равнодушием толпы» (с. 227–229).
Глава VI и последняя приводит к констатации разочарования из первой главы: «За тысячелетия своего разумного существования человечество ничего не создало непоколебимого и не приблизилось к разрешению вечных мучительных загадок, бремя которых лежит на нем с первых проблесков сознания» (с. 235).
Религия, искусство, наука оказались непоследовательными, они не могут удовлетворить гордый ум, они не могут утолить жажду знаний, не могут заполнить собой «пропасть тоски». Только «религия, проникнутая мистикой, дает своим посвященным радости просветленного созерцания, восторги экстаза. Но эта мистика дается лишь немногим избранным, она – не удел толпы, опошляющей ее своим дыханием, оскверняющей ее своим непониманием. Она – удел высокой уединенной мысли» (с. 235), «великих презирателей» Ницше, которые тоскуют по «другом береге» (с. 233) [39]. «Ночь, мистическая ночь!» [40].
И вот последние строки книги:
«Человеческий дух лишь в этом безнадежном стремлении к познанию и к смыслу чует свое призвание, лишь в этой тоске сознает свое влечение, лишь в глубине отрицания познает свою мощь, свою близость к вечной тайне Сущности, чуждой всякому определению. И в этом непобедимом призвании духа к безнадежному исканию – вечная тайна его, тайна духовной сущности, которой нет разгадки, нет объяснения, тайна отношений духа к материи и человека к миру, тайна духа, недоумевающего над собственной сутью.
Тоска… Тоска неведения… тоска бессмыслия, вечная, серая тоска, давно отразившаяся в загадочном взоре старого сфинкса, замершего среди сожженной солнцем пустыни» (с. 244–245).
Сочинение Юлии Данзас намного больше, чем «трактат по агностической философии», как оно определяется в ее автобиографии. Это иллюстрация и защита мистики от рационализма и пресного социологического христианства. Успех книги (она была переиздана в 1908 г.) испугал Юлию, так как та была понята как констатация краха всех человеческих стремлений: жизнь – тупик, из которого самоубийство – единственный выход [41]. «Она почувствовала угрызение совести за то, что, разочаровывая людей, внесла свою долю в усиление мирового страдания» [42]. На самом деле эта книга, отразившая экзистенциальную тоску автора, созданная на материале обширного круга чтения, возвещала открытие уже не абстрактного божества, но живого Бога, воплощенного в душе. Элитистское, эзотерическое и мистическое понимание христианства с его восточными корнями, противопоставленное протестантизму и секуляризованному христианству, вместе с отдалением от мира, неприятием мещанской толпы, социализма и моды образуют все еще некий синкретизм из идей Ницше, Паскаля и Евангелий. Он понемногу будет отстаиваться, и в нем уже можно ощутить стремление Юлии к мистическим созерцаниям, которым она будет предаваться в начале двадцатых годов. В предисловии к антологии Оливье Клемана «Истоки. Первые христианские мистики» [43] Жан-Клод Барро пишет: «Христианство – религия в первую очередь восточная. Христианство – религия мистическая. Эти утверждения весьма удивят многих из наших соотечественников, которые убеждены, что быть христианином означает читать нотации».
Но прежде чем всецело примкнуть к этому мистическому христианству, Юлии придется сначала пройти ряд испытаний: светские развлечения двора, войну и большевистскую антихристианскую революцию.
II. Фрейлина императрицы
«Моя бедная мама недолюбливала „ученых женщин“ она расстраивалась, видя, как я отказываюсь от выгодных партий, которые представлялись, и как я погружаюсь в столь неженственные, по ее мнению, занятия наукой. Семья организовала заговор, чтобы привлечь меня к светской жизни; они попросили и без труда получили для меня столь вожделенную в то время должность фрейлины императрицы.