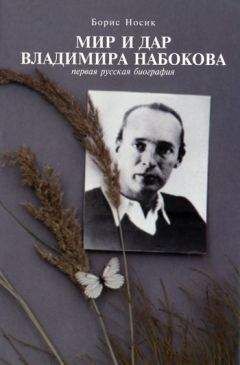Не верьте лукавому автору. Это его особенный Дар погружает нас в его особенный Мир. Десятки томов были написаны бесконечно тоскующими, и даже вполне одаренными, беженцами об их утраченном русском рае — увы, не было в этих книгах страниц, похожих на его страницы о детстве, и Набоков не мог не знать об этом. Как не было, вероятно, ни у кого, уже и в расцвете молодых сил и счастья, этой не убывающей тоски по детству, мерилу всякого счастья: «чудное дрожащее счастье, чем-то схожее и с его детством» («Облако, озеро, башня»); «тысяча мелочей, запахов, оттенков, которые все вместе составляли что-то упоительное, и раздирающее, и ничем не заменимое» («Защита Лужина»)… Мы могли бы цитировать до бесконечности, ибо все его шестнадцать законченных и два незаконченных романа так или иначе касаются неотвязного («Отвяжись, я тебя заклинаю»), счастливого детства.
Рай набоковского детства радует читателя и дает обильную пищу для сочинений набоковедов, из которых нас более интересуют русские, к тому же хорошо написанные по-русски. Скажем, Виктор Ерофеев замечает:
«Набоковский рай нельзя назвать языческим, несмотря на его чувственность, по причине того, что в нем есть парафраз христианской божественной иерархии, во всяком случае, ее элементы, связанные с существованием абсолютного авторитета в лице бога-отца или, вернее сказать, отца-бога, который, впрочем, выполняет функции не ветхозаветного карающего божества, но бога любви, любимого и любящего, идеального существа, воплощающего в себе черты отцовской и сыновней ипостасей, ибо ему надлежит погибнуть насильственной смертью по какому-то неумолимому закону бытия (и его воскрешения с безумной надеждой будет ждать герой романа „Дар“, и оно в конце концов произойдет в его сновидении).
…Память об изначальном, идеальном состоянии мира является основой набоковской этики… укорененной скорее в ощущении, в чувстве, нежели в категорическом императиве…»
Детство — это мир света и многоцветья, острых запахов, тонких и острых ощущений (которые наименее доброжелательные из критиков Набокова непременно называют «физиологическими»). Владимир Набоков сумел удержать их в памяти и воспроизвести с необычайной силой. Вы, наверное, помните, что первое воспоминание писателя связано с цветом, солнцем, блеском отцовской кирасы. И не случайно, ибо у маленького Володи (его звали на английский манер — Лоди) было очень острое ощущение цвета, воистину «ненасытное зрение», которому потакала его нежная, чувствительная матушка. Как поразительны эти детские игры с красным стеклянным яйцом, которое он заворачивал в специально смоченную простыню, или его «одисьóн колорэ», цветовой слух. Строя однажды замок из разноцветных азбучных кубиков, маленький Лоди сказал матери, что кубики окрашены неправильно, у этой буквы цвет должен быть другой. Тогда-то мать с сыном и выяснили, что для них обоих всякая звучащая буква имеет свой цвет (разные, впрочем, цвета для сына и для матери, для букв латинского и русского алфавита). Представление о цвете вызывали у маленького Лоди и самые разнообразные ощущения — обонятельные, тактильные: перегородки, разделяющие чувства, у этого странного ребенка были проницаемыми, они не защищали от «просачиваний и смешений чувств»…
Вообразим эту сцену: молодая Елена Набокова обнаруживает, что ее гениальный первенец так же слышит цвет, как она сама. К музыке, впрочем, в отличие от страстных меломанов-родителей, он оказался глух, но вот цвет… Елена пишет для него, совсем крошечного, яркие акварели («Какое это было откровение, когда из легкой смеси красного и синего вырастал куст персидской сирени в райском цвету!»). Она вынимает из тайника в стене петербургского дома груду своих драгоценностей и дает их малышу Лоди, для которого они подобны в своем «загадочном очаровании табельным иллюминациям, когда в ватной тишине зимней ночи гигантские монограммы и венцы, составленные из цветных электрических лампочек — сапфирных, изумрудных, рубиновых, — глухо горели над отороченными снегом карнизами домов».
Автор монографии «Чужой язык», посвященной двуязычным русским писателям, Элизабет Костли Божур, опираясь на наблюдения нейропсихологов, именно с двуязычием маленького Набокова связывает эту остроту восприятия и эту «синэстезию». Двуязычный (и трехъязычный) ребенок вообще, по наблюдениям психологов, весьма чувствительное и не вполне обычное существо.
Если верить Набокову, всякого ребенка посещают удивительные видения, у всякого бывают случаи прозрения и ясновидения. Не только перегородки между чувствами тонки: сужены расстояния между предметами, удаленными в пространстве и во времени, перегородки между этим и каким-то другим, неведомым миром. Да и сам здешний, с такой остротой воспринимаемый им мир, он для ребенка словно отзвук, оттиск, отпечаток того, другого, недоступного и непостижимого мира, той томящей тайны, которую писатель преследовал всю жизнь, подходя к ней совсем близко, однако не умея открыть (эти вот ощущения детства, этот видимый мир детства отчасти, может, все же приоткрывают ее).
Эпизоды и ощущения детства, все эти магически осязаемые, видимые, слышимые дни и минуты он потом щедро раздаривал своим героям, иногда вдруг огорчаясь, что воспоминания тускнеют. Но и потом, еще десятилетье спустя, они с той же яркостью вдруг возникали в его новом американском романе, и еще поздней, и еще — до последнего дня. Детские будни, детские болезни: «логика жара» («Другие берега»), «бедная куколка в коконе» компресса, узоры на обоях в детской, преследующие его в температурном жару («Пнин»), тропинка на акварели, в которую он, может быть, все же прыгнул однажды («Подвиг»).
У него были замечательные игрушки, купленные в Петербурге, в Биаррице, в Берлине — сохраненные в памяти, принесенные в зрелость и даже в старость, населившие его романы и ставшие символами утраченного рая: модели поездов и самолетов, английские велосипеды с ребристыми покрышками, теннисные ракетки и, конечно, мячи, мячи, мячи, — они катятся в его пьесах по сцене, закатываются под кровати, сверкают разноцветными боками, похрустывают кожей…
Поезда игрушечные, поезда настоящие… Международные экспрессы, воспоминание о которых томило всю жизнь (пока, может быть, не воплотилось отчасти в интерьере старомодного швейцарского отеля) — тяжелозвонные вагоны высшего класса, кожаные шторки окна, проводники в кофейной униформе, составы, окрашенные под дубовую обшивку, и тысячи искр за окном, и откидное сиденье в длинном коридоре…
Эти коричневые экспрессы в конце лета или в самом начале осени (когда так сыро и серо становится в Петербурге) увозили Набоковых в Париж и дальше, на берег Атлантики, в Биарриц, что всего в нескольких километрах от испанской границы, на Французскую Ривьеру или в Аббацию. Пляж, променад, парусиновые стулья, дети, играющие на песке, продавцы разной соблазнительной дряни, купальные кабинки, прислуга — «океанские банщики», спасатели, французская девочка Колетт, ее тоненькая искусанная шейка (предтеча всех этих женских шеек из его романов), его ранняя любовь Колетт, предтеча других его героинь-девочек, которым он, став знаменитым, дал родовое название, вошедшее во многие языки…