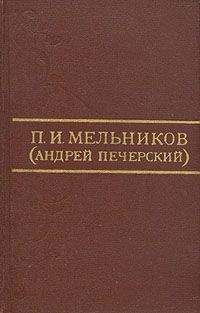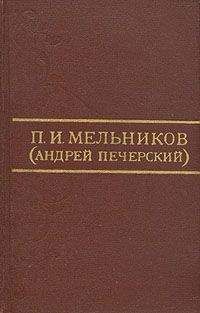В этом рассказе впервые выразились взгляды Мельникова на нового хозяина жизни, взгляды, которым он не изменял до конца своих дней. Конечно, Корнилы Егорычи — это сила. Но сила бесчеловечная, антинародная, сила тем более страшная, что ей покровительствуют власти, и поэтому при всей ее жестокости она безнаказанна.
«Красильниковы» были не только важнейшей вехой в литературной деятельности, но и во всем общественном поведении Мельникова. Осознав себя художником, уверовав, наконец, в свое художническое призвание, он острее, чем когда бы то ни было прежде, почувствовал, насколько чужд он миру чиновничества и насколько ненавистен ему этот мир. Раньше ему казалось, что он не может ужиться лишь в среде провинциального чиновничества. Теперь, вступив в круг высшей столичной бюрократии, он и здесь увидел тех же чиновников, может быть, чуть-чуть только повылощенней да поприбранней. Но самое важное было даже не в этом. В сороковых годах Мельников, если можно так сказать, «не смел» мыслить как художник, и поэтому его жизненный опыт носил экстенсивный характер: в памяти откладывался нескончаемый ряд наблюдений, а подлинная связь между ними не всегда до конца осознавалась. Теперь неверие в силы своего таланта больше не угнетало его и не мешало ему мыслить художнически. А художническая мысль в конечном счете устремлена к обобщению; без него подлинное творчество невозможно. Каждый замеченный факт сопоставляется со всем ходом вещей и, стало быть, становится достоянием творчества. И чем крупнее художник, тем сильнее в нем способность видеть, как в единичном явлении сказываются общие закономерности жизни. Правдивость заложена в самой природе мышления подлинного художника.
После успеха «Красильниковых» Мельников быстро освобождался от прежних иллюзий. А то, чему раньше он, может быть, не придавал значения, теперь приобретало глубокий смысл. Сюжеты и ситуации складывались сами собой, образы наполнялись живой тканью действительности. Теперь нужна была только возможность общения с читателем. И она в конце концов появилась.
Царствование Николая I кончилось так, как только оно и могло кончиться, — катастрофой. Казенный оптимизм, показное величие, оплаченные славословия — все это в свое время было пущено в ход николаевским правительством для того, чтобы успокоить, то есть обмануть общественное мнение. Но ложь — это палка о двух концах она поражает не только тех, кому предназначена, но и тех, кто ее выдумал. В последние годы николаевского властвования ложь пропитала все поры государственной жизни. Предупреждающие голоса внутри страны были подавлены, а то, что говорили о положении в России иноземные наблюдатели, объявлялось злонамеренной клеветой, сочиненной якобы из зависти. В правящих верхах, в сущности, никто ничего толком не знал. Страна была ввергнута в бессмысленную войну, в ходе которой показное величие рухнуло с таким треском, что главный лицедей режима — Николай — при всей своей безграничной самоуверенности не перенес этого: ходили слухи, будто лейб-медик Мандт оказал своему патрону последнюю услугу — дал ему по его просьбе соответствующую порцию яда, а сам отправился в родные места — в Германию — проживать щедрые царские подачки, заблаговременно переведенные в европейские банки.
Новый царь, похоронив «незабвенного» родителя (демократически настроенные люди сразу переиначили этот эпитет и стали звать Николая «неудобозабываемым»), поневоле должен был как-то менять внутреннюю политику — опять-таки ради успокоения общества. Но оно уже было не то, что раньше. В нем были силы, полные решимости опереться на растущее возмущение народа. Именно поэтому самодержавно-помещичьи правящие верхи вынуждены были пойти на известные уступки. В 1856 году заговорили о необходимости отмены крепостного права, о преобразовании суда, администрации и т. п. Был несколько ослаблен и цензурный гнет.
Передовые русские писатели не замедлили воспользоваться этим. В 1856 году вышли в свет две книги, обозначившие новую эпоху в литературе: сборник стихов Н. А. Некрасова, открывавшийся стихотворением «Поэт и гражданин», в котором звучал почти открытый призыв идти на бой против самодержавия и крепостничества, и «Губернские очерки» М. Е. Салтыкова-Щедрина, потрясшие читателей горькой правдой о нравах той огромной корпорации разных служебных воров и грабителей, о которой писал незадолго до своей кончины Белинский в знаменитом письме к Гоголю.
В рядах передовых писателей выступил и Мельников. Ему не пришлось долго размышлять над тем, что произошло в стране и чего ждет общество от литературы. В 1856–1857 годах — всего лишь за один год с небольшим — он напечатал целую серию произведений, которые если и не были целиком написаны, то уж во всяком случае обстоятельно обдуманы еще в николаевские времена. «Дедушка Поликарп», «Поярков», «Медвежий угол», «Непременный» — во всех этих рассказах Печерского предстали перед читателем во всей своей безобразной и цинической наготе порядки и нравы, господствовавшие в самодержавно-чиновничьем государстве.
Мельников сразу выдвинулся на одно из первых мест в литературе тех лет. Редакторы журналов наперебой стремились заручиться его согласием на сотрудничество, критики ставили его имя наряду с именем Щедрина. Это сближение не без гордости принимал и сам Мельников. «Я с Салтыковым по одной дорожке иду: что Щедрину, то и Печерскому».[12]
В 1857–1858 годах такая оценка не была преувеличенной.
В названных выше рассказах Андрей Печерский не изменяет своей позиции занимательного и непритязательного рассказчика. Он, по-видимому, без каких-то важных целей повествует о людях и случаях, с которыми ему пришлось сталкиваться во время его разъездов по медвежьим углам — по всем этим Рожновым, Чубаровым, Бобылевым. Этот своеобразный «индифферентизм» Печерского подчеркнут и построением его рассказов: обыкновенно он только вводит читателя в обстановку действия, а затем заставляет говорить своих героев. Они-то чаще всего и рассказывают о главных героях и обстоятельствах, тоже как будто бы не вдаваясь в суть дела, а просто так, для занятности. Если это какой-нибудь мелкий чиновник вроде Пояркова, то он рассказывает о своих похождениях, неизбежно впадая в бахвальство: «Да-с, бывал я котком, лавливал мышек». Если же речь ведет человек из народа, как, например, дедушка Поликарп или старик Максимыч из рассказа «На станции», то он обыкновенно толкует о чиновниках «хороших», которые сейчас правят, противопоставляя их «плохим» прежним. Но в этом простодушии Печерского и его собеседников и сказывается горькая ирония Мельникова, являющаяся в этих его рассказах одним из главных средств выражения идеи повествования.