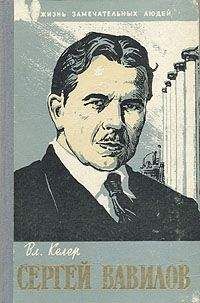Начинается новая страница жизни.
Глава III
ПРОФЕССОРЫ И ПОЛИЦЕЙСКИЕ
Когда Вавилов с трепетом переступил впервые порог старейшего и славнейшего университета страны, он был поражен атмосферой царившей там духовной свободы и товарищества, связывающего студентов и их преподавателей.
Потом он понял, откуда эта атмосфера. В известном смысле она явилась следствием той недолговременной победы, которую одержала русская вузовская интеллигенция в 1905 году. Напуганное размахом революции, проникшей и в стены высших учебных заведений (в Московском университете, например, впервые за всю его историю в аудиториях на сходках встретились студенты и рабочие), царское правительство было вынуждено восстановить так называемую автономию высшей школы. Она заключалась в праве университетов самим выбирать свое руководство: ректоров, проректоров, деканов и так далее. Свободно избранным коллегиям вверялось сохранение порядка в стенах вуза. Когда-то, а именно до вступления на престол Александра III, подобная автономия в Московском университете существовала. «Москва жила своей жизнью, — писал Владимир Гиляровский, — а университет — своею». Устав 1884 года уничтожил профессорскую автономию. И вот она вводилась снова…
Питомник знаний, заложенный еще М. В. Ломоносовым, переживал пору своего расцвета. Вавилову и его товарищам по занятиям посчастливилось попасть в него в самое хорошее время.
Превосходен был профессорско-преподавательский состав университета. На всех факультетах и отделениях читали лекции и вели практические занятия крупнейшие ученые того периода. Первокурсник сразу попадал под обаяние блестящего лектора-математика Б. К. Млодзеевского. Другой математик, Д. Ф. Егоров, читал не так блестяще, зато глубже. В те годы начал свою творческую деятельность основатель московской школы алгебраистов Н. Н. Лузин. Механика была представлена Н. Е. Жуковским и С. А. Чаплыгиным. На яркие лекции по астрономии В. К. Цесарского сбегались студенты всех факультетов. Его старшими помощниками были С. Н. Блажко и ученый-большевик П. К. Штернберг, имя которого впоследствии было присвоено Государственному астрономическому институту при Московском университете. В 1907–1908 годах этот помощник Цесарского под видом изучения аномалии силы тяжести с группой товарищей делал съемку улиц Москвы для целей будущего вооруженного восстания.
Ботанику в университете преподавал К. А. Тимирязев, органическую и аналитическую химию — Н. Д. Зелинский, неорганическую и физическую химию — И. А. Каблуков, минералогию и кристаллографию — В. И. Вернадский и Ю. В. Вульф. Известный знаток птиц, автор первых капитальных трудов по систематике и биологии пернатых нашей родины М. А. Мензбир руководил занятиями по зоологии. Геология и палеонтология были представлены А. П. Павловым и М. В. Павловой, география и антропология — Д. Н. Анучиным…
Не спорим, утомительно читать длинный ряд имен, хотя бы самых славных. И все же мы не вправе оборвать этот список, не упомянув о физиках. Ведь наша книга об ученом-физике, и не сказать о тех, кто много сделал, чтобы он стал тем, кем стал, было бы, конечно, непростительным.
Вот что говорил об этой группе ученых хорошо и лично знавший их всех, впоследствии член-корреспондент Академии наук СССР, Торичан Павлович Кравец:
«Физика была представлена особо блестящим созвездием: Н. А. Умов — глубокий теоретический ум, склонный к самым широким обобщениям и философским выводам; А. А. Эйхенвальд — активный и вдохновенный пропагандист новых воззрений, недавно перед тем опубликовавший свои классические исследования о магнитном действии движущихся зарядов, человек всесторонне одаренный, и, наконец, — о нем нужно было бы говорить в первую очередь — П. Н. Лебедев — создатель в Московском университете первой крупной школы физиков-экспериментаторов, малоизвестный широкой публике, чуждавшийся публичных выступлений, но в среде более близко знакомых с наукой гремевший как автор всемирно известных исследований коротких электрических волн, светового давления на твердые тела (1900–1901) и на газы (1908–1910)».
Студенты любили своих профессоров, а профессора любили своих студентов. О самых популярных и пользующихся всеобщей симпатией руководителях кафедр молодежь не уставала выдумывать всяческие истории.
Собирается, бывало, человек пять-шесть студентов; какой-нибудь из них, в порыжелой тужурке и в фуражке с выцветшим добела некогда синим околышем, начинает:
— Проснулся Иван Алексеевич, смотрит в окно, а наружный термометр показывает двенадцать градусов. «Батюшки мои! — вскочил Иван Алексеевич. — А у меня в одиннадцать коллоквиум».
Гомерический смех пятерки или шестерки потрясает аудиторию.
— А вы не знаете, как Иван Алексеевич охромел? — вставляет тщедушный, с пробивающимися усиками студентик.
— Нет, нет… Валяй рассказывай!
— Выходит, значит, Иван Алексеевич из дому. Задумался, идет по самому краю тротуара. Одна нога на тротуаре, другая на дороге. Подходит к университету, вдруг смотрит: «Господи боже мой! Да когда это я охромел?»
Снова хохот.
— А как телефонной трубкой смесь размешивал! Объяснял в телефон, что надо делать!
— А как вместо «Иван Каблуков» подписался по рассеянности «Каблук Иванов»!
— А как…
Профессора не обижались. Они понимали юмор и понимали, что все эти выдумки порождены симпатией. Некоторые даже сами порой выспрашивали у своих питомцев: «Расскажите что-нибудь новенькое обо мне».
Профессора не только обучали своих студентов. Они проявляли о питомцах всяческие заботы, в частности защищали их от полицейского начальства, когда в том возникала необходимость. Пользуясь законом об автономии высшей школы, руководители университета не разрешали полиции входить в его стены даже во время так называемых «студенческих беспорядков». В конце концов это закончилось трагически для многих. Но об этом разговор позднее.
В сентябре 1909 года Сергей Вавилов прослушал первую в своей жизни лекцию Петра Николаевича Лебедева.
«Она была совсем не похожа на прочие университетские первые лекции, — писал Вавилов, — которые мы, первокурсники, жадно слушали, бегая по разным факультетам. Это были слова только ученого, а не профессора, и содержание лекции было необыкновенным. Лебедев обращался к аудитории, как к возможным будущим ученым и рассказывал о том, что нужно для того, чтобы сделаться физиком-исследователем. Это оказывалось совсем нелегким делом, но в заключение следовали обнадеживающие слова: „Плох тот казак, который не хочет быть атаманом“. Образ физика-ученого и уроки первой лекции запечатлелись на всю жизнь».[4]