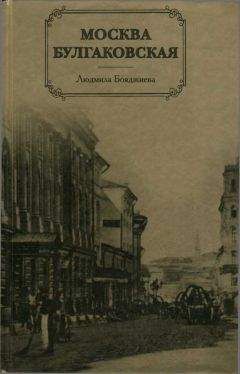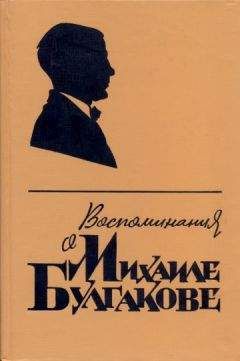— Крепче, крепче держи, черт! — крикнул Михаил.
Тася увидела его меловое, усеянное бисерным потом лицо и глаза, полные злого ожесточения. Дохнула нашатыря и со всех сил вцепилась в чужую, похолодевшую плоть.
… Осенью 1916 года М.А. Булгаков был вызван в Москву и оттуда послан в распоряжение смоленского губернатора. Из Смоленска получил направление в Никольскую земскую больницу, расположенную в степи, в тридцати с лишним километрах от уездного города Сычовка. Не детским врачом — общим специалистом, одним на весь уезд. А значит — и хирургом, и инфекционистом, и дантистом, и… что перечислять… полный кошмар. Двадцать пять лет и почти нулевой опыт.
Два года работы Булгакова земским врачом он опишет в блистательных «Записках юного врача». Текст почти целиком документальный. С одним важным исключением — доктор, приехавший после университета в захолустную больницу, пугающе одинок. Одинок не только как врач, вынужденный стать универсальным специалистом, но и как личность, как живой человек, пропадающий в убийственной стуже «тьмы египетской» — темной и нищей российской глубинки. Одиночество подчеркивает трагизм и остроту ситуаций. Один в поле воин — молодой доктор отчаянно сражается за человеческие жизни. В реальности рядом с Михаилом все это время была Тася. Не сожитель и наблюдатель — а помощник и спаситель.
2Пропадая часами на приеме больных, делая самые отчаянные операции, Булгаков быстро набирался опыта. Слава молодого доктора росла. Уже в ноябре по накатанному санному пути к нему стали ездить на прием сто человек крестьян в день. Михаил едва успевал забежать домой, чтобы перехватить что-то, приготовленное Тасей. Частенько он и вовсе не успевал пообедать, принимая по 8–9 часов кряду. Кроме того, при больнице имелось стационарное отделение на тридцать человек, и часто приходилось оперировать. Уставал нечеловечески, это да. Возвращаясь из больницы в девять вечера, не хотел ни есть, ни пить. Ничего не хотел, кроме того, чтобы никто не приехал звать его ночью на роды. Но каждую неделю за доктором приезжали ночью по нескольку раз.
Темная влажность появилась у него в глазах, а над переносицей легла вертикальная складка. Ночью он видел в зыбком тумане неудачные операции, обнаженные ребра, а руки свои в человеческой крови, и просыпался липкий и прохладный, несмотря на жаркую печку-голландку.
— Все вьюги, да вьюги… Заносит меня! И все время один, один, — бормотал в полусне.
— Помощь пришлют, ты ж написал в Сычовку, что тут нужен второй врач. Потерпи. — Тася старалась придать голосу уверенность, хотя сама уже не верила, что жизнь в деревне образуется к лучшему.
Врача на подмогу Булгакову не прислали, решили — и так хорошо справляется. А беда была рядом.
Привезли девочку с дифтеритом. Михаил начал делать трахеотомию, фельдшеру вдруг сделалось дурно, он упал, не выпуская крючок, оттягивавший край раны. Инструмент перехватила сестра. Михаил, впервые делавший трахеотомию, выстоял, не отступил. Отсосал из горла больной дифтеритные пленки, спас девочку…
Вечером сказал Тасе:
— Мне, кажется, пленка в рот попала. Придется делать прививку.
— Тяжело будет. Лицо распухнет, зуд начнется страшный в руках и ногах — я-то знаю.
— Ерунда, ты перетерпела, а я и подавно.
После прививки все тело Михаила покрылось сыпью, страшные боли скручивали ноги. Он метался по кровати, скрипя зубами, наконец, простонал:
— Не могу терпеть больше. Зови Степаниду. Пусть морфию впрыснет.
После укола сразу успокоился и заснул. А вскоре, когда появилось какое-то новое недомогание — снова позвал Степаниду.
— Миш, не надо больше колоться, привыкнешь же, заболеешь, — робко заметила Тася после очередного укола.
— Дура! Ничего не привыкну! Я же совсем разбитый был, сломленный. Теперь состояние прекрасное, замечательное! Хочется работать, творить!
Он и в самом деле садился писать и работал в упоении. Что писал — жене ни слова.
— Миш, а что ты там сочиняешь? — решилась пробить стену молчания Тася.
— Тебе не понять. Литература — дело тонкое, — отмахнулся он.
— Что ж, я книжек не читала?
— Ну, уж если очень хочешь… Только это вообще — бред сумасшедшего. Ты после этого спать не будешь, кошмары замучают, — объяснил он, и в тоне мужа Тасе послышалась насмешка над ее необразованностью, бабьей глупостью. Мол, не твоего ума дела — варишь суп, и вари.
Период между впрыскиваниями становился все короче, доза больше.
Он кололся уже два раза в сутки, а убыль морфия в больничной аптеке пополнил, съездив в уезд. Мучительное ожидание нового впрыскивания все чаще приводило Михаила в бешенство. Жестокие ссоры с Тасей сменялись периодами зыбкого затишья.
Что бы не настораживать Степаниду, истратившую на уколы доктору чуть не весь больничный запас морфия, Тася стала делать стерильные растворы сама. Набирая шприц, проклинала себя за то, что опять не устояла, не смогла противостоять мужу. И каждый раз решала: «Этот укол последний. Пусть хоть убьет!»
— Я не буду больше приготовлять раствор. — Тася отвернулась к стене, спрятала голову под одеяло.
— Глупости, Тасенька. Что я, маленький, — что ли? Брошу, когда захочу. Ну, не спи же, прошу тебя! — тщетно пытался он повернуть ее к себе.
— Не буду! Ты погибнешь. — Она села, обхватив колени руками. — Никогда больше не буду.
— Да что я, морфинист, что ли?
— Да. Ты становишься морфинистом!
— Итак, ты не станешь?
— Нет.
— Хорошо. Иди и принеси шприц. — Он вытащил из-под подушки наган и навел его на Тасю. — Убью и не пожалею, — сказал тихо, внятно.
— Убивай! Мне жить больше незачем. Спасибо скажу! Убей меня, Мишенька! — Тася рванула на груди ночную сорочку, шагнула к нему, содрогаясь в истерике: — Убей же, трус!
Он отшвырнул браунинг, вскочил, ринулся в кабинет. Набрал шприц, чуть не разбил его, отшвырнул и сам задрожал, всхлипывая страшно, судорожно. Тихо подошла Тася, взяла шприц, ампулы и, заливаясь слезами, приготовила инъекцию. Михаил обнажил худое, в отметинах уколов, предплечье.
— Себя проклинаю, что поддалась твоим уговорам. Плохо все это кончится. — Она с отчаянием вонзила иглу под бледную кожу. Михаил обмяк, вздохнул с облегчением.
— Умница, умница… верная жена моя. Друг мой, друг. Справлюсь, когда в самом деле почувствую опасность.
Он закрыл глаза, через некоторое время тихо сказал: — Слыхала, говорят, Николая Второго свергли…
3
Революцию 1917 года в Никольском проморгали. Вроде были какие-то слухи о бунте в городах, но мужики ничего не поняли. В сущности, все оставалось по-прежнему. Лишь раз, съездив в Москву на консультацию к дядьке-врачу, Михаил видел поразившие его картины бунта: зверств, разрухи, нищеты. Но где она — Москва? Где бунг? Здесь своя жизнь, вековая, беспросветная тьма.