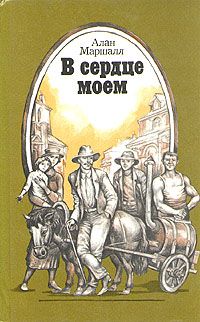Потом он все пропивал, лихорадочно и поспешно глотая пиво, то и дело вытирая рот тыльной стороной руки. Мне много раз приходилось завтракать с ним. Он был повестью, которую мне еще предстояло прочесть, но я не сомневался, что кончит он в канаве.
Шеп жадно слушал рассказ Стрелка: в воображении он, несомненно, сам силой отбирал деньги у своих обидчиков. Пасуя перед силой, он любил слушать о насилии. Рассказы о разбитых в кровь физиономиях, об ударах в живот, заставляющих сгибаться вдвое гордых и сильных людей, о бурных ссорах радовали его сердце, успокаивали раздражение, смягчали ненависть. В царстве его воображения никто не осмеливался относиться к нему с пренебрежением, в этом царстве люди, оскорбившие его, жестоко за это расплачивались.
Однажды ночью я наткнулся на него — он лежал ничком на соломе в конюшне и рыдал.
— Боже милостивый, помоги мне! — бормотал он между приступами рвоты.
Я посидел около него, пока он не успокоился.
После завтрака я отправился в Управление округа — начинался мой первый рабочий день. Писавший какое-то письмо мистер Р.-Дж. Кроутер с рассеянным видом проронил: «Доброе утро». Его стол был так завален бумагами, коробками с булавками и скрепками, большими конвертами и бухгалтерскими книгами, что ему пришлось пристроить свое письмо на кипе каких-то бланков.
— Подождите минуту! — бросил он. Закончив письмо, он его запечатал и спросил:
— Ну, как устроились в гостинице?
— Очень хорошо, — сказал я и добавил: — Вы были правы, место это так себе.
— Я знал, что вы и сами скоро поймете это, — буркнул он. — Главное держитесь в стороне. Пойдемте, я покажу, что вам надо делать.
Кроутер повел меня в соседнюю комнату, по дороге он спросил:
— Видели Роуз Бакмен?
— Да.
— Ну, как она вам?
— Да как сказать… — начал я. — Не знаю… мне она не очень понравилась.
— Держитесь от нее подальше, — посоветовал Кроутер. Он взял большую конторскую книгу в кожаном переплете. — Это налоговая книга, по ней вы будете составлять налоговые извещения, вот на таких бланках. Вот кассовая книга, сюда будете вписывать полученные чеки, а потом переносить суммы в налоговую книгу.
Он объяснил мне еще кое-какие мелочи и оставил одного.
Работа оказалась легкой, но задолго до конца рабочего дня меня начало мучить желание выйти на волю, на солнце. Я почувствовал, что работа в конторе отрывает меня от мира, что, запертый в четырех стенах, я теряю связь с землей. Там, за стеной, поют птицы, растут деревья и цветы, но все это не для меня. День, целый день моей жизни был потерян безвозвратно.
Я с ужасом думал о долгих днях заточения, которые ждут меня впереди, о том, как будет меняться лицо неба и земли, в зависимости от времени года, а меня при этом не будет. Только в воскресенье я буду видеть результаты свершившегося за неделю чуда, но никогда, никогда не увижу чудесного хода этих изменений.
Окна конторы были забраны железной решеткой, словно окна тюрьмы; я и чувствовал себя в тюрьме, у меня всегда было странное чувство, что только земля может дать мне силы, — земля и то, что произрастает на ней. Источник творческой энергии, из которого я жаждал черпать, находился вне этих стен. Он таился в деревьях, в солнечном свете, в зеленых зарослях. Он отождествлялся в моей душе с красотой, музыкой, смехом детей, игравших на лужайке летним вечером.
Так было, но впечатления последних двух дней что-то изменили во мне. Я почувствовал, что сила, необходимая будущему писателю, придет только с пониманием людей. Я должен узнать людей так же близко, как знал деревья и птиц.
После полудня я отложил в сторону налоговые извещения и попробовал набросать в нескольких фразах портреты людей, с которыми встретился в гостинице, но наброски показались мне безжизненными, и я их тут же изорвал.
После работы я уселся на нижнюю перекладину забора возле конторы и стал смотреть, как меняются в свете заходящего дня очертания горных вершин и стройных эвкалиптов; мысли легкие, поэтичные, проносились в моей голове. Овцы, щипавшие траву на лугу внизу, четко рисовались в последних лучах солнца. Воздух был напоен запахом сена; на склоне ближайшего холма стояли стога; собачий лай доносился с отдаленной фермы. Мне казалось, что я, как птица, лечу над желтеющими пастбищами и деревьями. Я кружился в небе, и воздух жужжал у меня в ушах чуть слышно, как жужжит пчела.
Услышав, что подъехал дилижанс, я отправился на гостиничный двор и подождал, пока Артур распряг и накормил лошадей. Потом мы вместе вошли в гостиницу, и он перенес мои вещи к себе.
— Нечего тебе оставаться в той комнате, — сказал Артур. — В будние дни, может, и ничего, а в субботу какая-нибудь девка уж обязательно заглянет туда. Место тут странное, ты таких, верно, и не видывал. У меня тебе будет спокойнее.
Комната у него была большая: две кровати по углам комод со стоячим зеркалом, платяной шкаф и умывальник! Старый матросский сундучок со скромными сокровищами Артура примостился у стены.
Столик, опиравшийся на три перекрещивающиеся бамбуковые ножки пристроился у самой его кровати. Стол был покрыт грязной белой скатертью, на нем в беспорядке стояли жестянка с табаком, коробка с папиросной бумагой, крышка от банки, полная окурков, эмалированный подсвечник с огарком свечи. В подсвечнике среди обгоревших спичек лежали два дохлых клопа.
Дверь из комнаты вела прямо в кухню, окно выходило на небольшую рощицу.
Мы с Артуром поужинали, а потом долго сидели в его комнате и разговаривали. Он рассказывал мне разные случаи из своей жизни, и этим рассказам суждено было на долгие годы окрасить мое восприятие окружающего мира. Много вечеров подряд я жадно слушал его. Простодушие часто мешало Артуру понимать смысл пережитого им. Многое из того, что было в его жизни, внутренне обогатило его. И только рассказывая и видя, какой инк рее эпизоды его жизни вызывают у слушателя, он начинал осознавать все значение их и по-новому открывал их для себя.
На его пути встречались низость и благородство, и далеко не всегда грань между добром и злом проходила достаточно четко. Но грязь жизни, которая оставляет следы в душе большинства людей, не коснулась его.
Он был по-юношески пытлив и любознателен. Когда я рассказывал ему о себе, он весь обращался в слух и не сводил с меня глаз. Смысл моего рассказа он усваивал медленно, часто повторял: «Скажи-ка еще раз». Но, поняв, что именно я хочу сказать ему, он уже не забывал моих слов.
Любое мое затруднение волновало его, как свое собственное. Он не отмахивался от них, а размышлял над ними и постоянно возвращался к ним. Мне льстило, что он так серьезно относится ко мне. Когда я сказал ему, что мечтаю стать писателем, он ни на секунду не усомнился, что так оно и будет. С тех пор в его представлении я уже стал писателем.