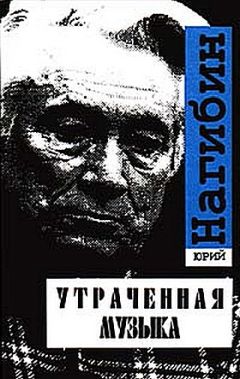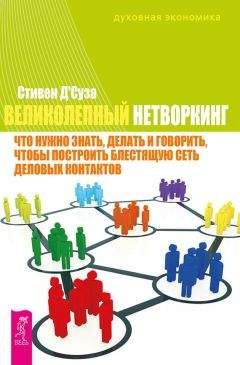6
Вечером по совету Раи Рюмин мы отправились в артистическое кафе, посещаемое не только актерами, но и кинематографистами, писателями, журналистами, художниками, скульпторами, музыкантами, а также серьезными людьми, тянущимися к «богеме». Мы надеялись встретить кого-нибудь из киногруппы, снимавшей в ста километрах от Хельсинки фильм о Лассила. Наши надежды не сбылись: из-за относительно хорошей погоды и голубизны небес, довольно редкой для ранней финской весны, группа работала без передышки и ни ногой в столицу. Другое сообщение было еще печальнее: покончив со здешней натурой, группа немедленно перебазируется в Турку, куда мне не попасть.
К нам часто подходили разные люди, Раю Рюмин тут хорошо знали, я то и дело пожимал мужские и женские руки: сильные кисти скульпторов, длиннющие пальцы музыкантов, вялые руки поэтов и поэтесс, раз моя рука утонула в огромной теплой сухой пятерне известного юриста, другой раз ее долго тряс подвыпивший актер, громко крича мне свое прославленное имя, в ответ я орал свое, но поскольку мы сроду друг о друге не слыхали, а шум стоял изрядный, то каждый сохранил инкогнито.
Я пользовался всяким удобным случаем и заводил разговор о Лассила. Редко кто не делился хоть какими-то соображениями о нем, и до чего же противоречивы были высказывания! Это касалось и его личной и общественной жизни, участия в петербургской террористической организации, учительства, коммерческой деятельности, отношений с женщинами, свойств характера, газетной работы, взглядов и места в литературе…
Мастер создавать запутанные ситуации в романах, Лассила сумел так же запутать свою биографию и личностную суть. Рассказывают, что, обручившись с дочерью коммерсанта, он покинул жену после первой же брачной ночи. Правда, развода он добился лишь через семь лет. Одни утверждали, что бракосочетание прикрыло грех — было заранее оговорено, что Лассила дадут свободу, но его обманули. Другие точно знали: у новобрачной оказался скрытый физический недостаток, делавший невозможной супружескую жизнь, и это явилось страшным психическим ударом для Лассила. Но ни один не мог сказать, откуда почерпнул свои сведения, похоже, все это отголоски старых сплетен и пересудов, оказавшихся на редкость жизнестойкими. Таким образом, и эта тайна Лассила осталась неразгаданной, как и многие другие, охватывающие как целые периоды его жизни, так и его исход.
Еще загадочнее то, что произошло со второй женой, Ольгой. Я видел в архиве ее фотографии, она была крупной, статной, ярко красивой. Девичья фамилия у нее была шведская, по мужу — польская, но принимали ее почему-то за русскую. Последнее ошибочно, хотя толика славянской крови в ней как будто была. Она приехала в Россию за наследством, познакомилась с молодым чахоточным поляком Ясинским, вышла за него замуж, но вскоре овдовела. Вела странную, двусмысленную жизнь, и тут на пути ее возник замкнутый, нервный, застенчивый и доверчивый Лассила. Началась любовь. Он был захвачен по-настоящему, о склонной к мистификациям женщине ничего нельзя сказать с уверенностью. Плодом этой любви явился ребенок, вскоре умерший. А затем последовал разрыв и дикий поступок необузданной в дурных страстях дамы: она попыталась навек лишить Лассила мужской силы, плеснув в него серной кислотой. Лассила долго и мучительно лечился от тяжелого ожога, но сделал все возможное, чтобы выгородить мстительницу, в чем и преуспел. Злой рок как будто преследовал его: на каждом шагу — либо трагикомическая неудача, либо разочарование и боль. И непонятно, как сохранил он в себе столько юмора!..
Один из приземлившихся за нашим столиком журналистов долго и серьезно рассказывал о деятельности Лассила-террориста.
— Он был участником убийства Плеве!
— Но ведь Плеве убила бомба Сазонова.
— Да. Но если б Сазонов промахнулся, это сделал бы Лассила. Многие забыли, что Плеве был три года министром Финляндии. Лассила вручил бы ему счет.
Когда журналист отошел, видный юрист, пожилой молчаливый человек с мрачновато-ироническим прищуром близоруких глаз, сказал:
— Ну уж от бомбы нашего Лассила Плеве погибнуть не мог.
— Почему?
— Лассила действительно входил в боевую организацию и не расставался с бомбой, которую таскал в брючном кармане. Некоторые думали, что у него грыжа. Раз в людном кафе, увлекшись спором, он вынул ее из кармана вместо носового платка. Другой раз уронил посреди Невского, расплачиваясь с извозчиком. Террористы давно поняли, с кем имеют дело, это были очень серьезные люди. Писатель, поэт не годится для конспиративной работы. Они не сомневались в его искренности, его убеждениях и мужестве, в готовности пойти на смерть, но знали также, что витающему в облаках, рассеянному и эмоциональному художнику нельзя доверять до конца и начинили бомбу гостиничными счетами. Попадись Лассила со своей бомбой полицейским, те увидели бы, что это просто игрушка.
Мне вспомнилось, что с бомбой стоял на углу одной из улиц Сараева в роковой день лета 1914 года будущий лауреат Нобелевской премии, классик сербской литературы Иво Андрич, но убил эрц-герцога Фердинанда все-таки не он, а студент Гаврило Принцип. Я склонен думать, что отважного Андрича поставили не на самое главное место по той же причине, о которой говорилось выше.
Сам Лассила с предельной серьезностью относился к своему терроризму. Он так до конца дней и не узнал, сколь безобидное оружие вложили ему в руки. Хоть это разочарование его миновало.
Слушая юриста, я чувствовал, что многие люди так и не завершили своего спора с Лассила — юристу доставляла удовольствие фарсовость лассиловского терроризма. Он не любил Лассила, этот преуспевающий человек, в отличие от журналиста, которому наверняка известны фокусы с бомбой, но тот судил о Лассила как бы изнутри, и тогда все смешное отпадало, как шелуха, и оставалась жертвенная готовность к подвигу. Финляндию населяют люди с разными убеждениями, и можно не сомневаться, что нашлись бы и такие, что охотно составили компанию Эйно Райло и Кюёсти Вилкуна, — буржуа так и не простили Лассила его революционных убеждений. Сказанное относится и к буржуазному литературоведению, отнюдь не спешащему разогнать окутывающую его творчество и личность мглу. Он по-прежнему «персона нон грата» для очень и очень многих. Вот что я прежде всего вынес из шумного артистического кабачка, где просидел до глубокой ночи…
На другой день мы пошли к режиссеру, недавно поставившему пьесу Лассила. Меня долго, хотя и ненавязчиво, исподволь подготавливали к встрече с ним, но я упорно отказывался понимать иносказания, недомолвки и тончайшие намеки… Никогда не был я силен в околичностях, люблю определенность, четкость и прямоту, а со мной разговаривали в духе Ихалайнена, пришедшего сватать дочь старика Хювяринена за своего овдовевшего друга Юсси Ватанена («За спичками»). Жители Ликери, как и все их соотечественники, сильны в иносказаниях, и сообщение о том, что коровы Юсси хорошо доятся, сразу подсказало и самой избраннице вдовца и всей семье Хювяринена, куда ветер дует. Ныне ситуация была несколько иная: сваты хотели мне дать понять, что невеста-режиссер с каким-то брачком, но я никак не понимал окольных слов, глубоких вздохов, проникновенных взглядов, грустно-насмешливых улыбок — не дано мне финской догадливости.