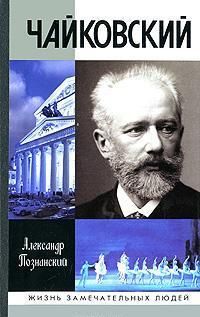Если иметь в виду, что в большинстве писем подобные выражения встречаются в каждом по несколько раз, странность впечатления увеличивается. Памятуя о том, что сам стиль этих сентиментально-страстных писаний нельзя полностью объяснить ни исключительно духом времени (хотя влияние семейной обстановки, а в особенности лексикона Ильи Петровича, дает себя знать), ни исключительно возрастом писавшего, имеет смысл обратиться на этот счет к соображениям Модеста Ильича.
«Первое, что бросается в глаза, это поразительная любвеобильность корреспондента. Из всех тридцати девяти писем нет ни одного, в котором он отозвался о ком-нибудь неодобрительно, нет ни одного лица, о котором он сказал что-нибудь кроме похвалы. Все окружающие добры к нему, ласковы, внимательны, ко всем он относится с любовью и благодарностью. <…> Кроме того, особенно характерна искренность и прямота этих писем. <…> Она также ярко выступает из сравнения писем двух братьев. Николай, от природы менее чувствительный… <…> так обращается к родителям, что на каждом шагу чувствуется формальность, прикрывающая — при несомненной наличности сильной любви к родителям — холодность настроения в момент писания самого письма. <…> Ничего подобного в письмах младшего брата. Он не скупится на ласковые выражения и хорошие отзывы; наоборот, гораздо чаще прибегает к ним, но всегда так, что невольно веришь искренности его, — видишь, что письмо диктуется не только головою, но и сердцем».
Этот комментарий Модеста Ильича существенен для нас не как панегирик обожаемому брату, уже в раннем отрочестве словно обладавшему всеми добродетелями, но как констатация того, что уже в детской переписке, при всей наивности ее и обилии общих фраз, проявились некие психологические черты, присущие единственно его личности: способность к страстной привязанности и склонности к эмоциональному эксцессу. Качества эти, в зависимости от темперамента и мировоззрения, можно объяснить сентиментальностью или романтизмом, восхвалить или подвергнуть осуждению. Важно, однако, следуя за Модестом Ильичом, подчеркнуть естественность проявления их в случае Чайковского: во всей детской (как позднее и взрослой) переписке нет ни тени фальшивой интонации — несмотря на сделанное им однажды в дневнике признание, что он «рисуется» в письмах. Это означает, что в момент написания письма, как бы он сам ни расценивал это позже, Чайковский переживал именно то, о чем писал, и если ему хотелось плакать или, наоборот, радоваться, — он мог поведать об этом интимным корреспондентам с очаровательной непринужденностью. Это свойство, очевидно, ответственно за обезоруживающую откровенность его в переписке не только с родными, которым он доверял себя полностью (особенно братьям Анатолию и Модесту), но, в известной степени, даже с Надеждой фон Мекк, ему духовно близкой, несмотря на предельные деликатность и такт, которых в его положении требовала эта переписка.
Каковы были привязанности будущего композитора в годы его учебы в приготовительных классах Императорского училища правоведения? Об этом, несмотря на сохранившиеся письма, мы знаем мало. Первоначально наблюдение и некоторую опеку над братьями Чайковскими в Петербурге осуществлял приятель Ильи Петровича — Модест Алексеевич Вакар, позже — его брат Платон, бывший правовед. Возможно, по его рекомендации Петя и был отдан в училище. С отношениями к семье Вакаров связана постигшая мальчика в этот период психологическая травма: во время эпидемии скарлатины Петя занес (сам заболев) в их дом эту болезнь, которой заразился их старший сын Коленька (пяти лет) — «любимец и гордость родителей». Петя этого ребенка обожал. «Коля Вакар просто Ангельчик, я его очень люблю», — писал он родителям в октябре 1850 года. В конце ноября «ангельчик» Коля Вакар скончался. «Нужно знать, как еще долго спустя, в течение большей части своей жизни Петр Ильич относился к смерти не только близких ему и знакомых, но и совершенно чужих людей, в особенности если они были молодые, чтобы представить себе, как страшно, как тяжело отразилось на нем тогда это событие, — пишет Модест Чайковский. — Для понимания его ужасного положения надо принять во внимание то обстоятельство, что хоть его и успокаивали неверными названиями болезни умершего, но, по его словам, он знал, что это была скарлатина, и что эту болезнь принес в дом никто другой, как он, и что окружающие вопреки разуму и усилиям над собой не могут все-таки в глубине души не винить его, — его, который по природной любвеобильности только и думал всю жизнь, с тех пор, как себя помнил, о том, чтобы всюду вносить с собой утешение, радость и счастье!»
Известны нам также два имени его одноклассников — и единственное упоминание о них в письмах мы находим опять-таки в сентиментальном контексте: «В среду 25 апреля я праздновал мое рождение и очень плакал, вспоминая счастливое время, которое я проводил прошлый год в Алапаихе, но у меня были — 2 друга Белявский и Дохтуров, которые меня утешали. Мамашичка, Вы видели, когда я поступил в приг[отовительный] кл[асс], Белявского, я вам говорил, что он мой друг» (письмо от 30 апреля 1851 года).
И все же было бы ошибкой думать, что подросток постоянно пребывал в печали и сентиментальном настроении. Как и все дети его возраста, он не прочь был предаваться веселью и проказам. В одном из писем родителям описывается, как он с приятелями играл веселую польку на рояле, а другие ученики танцевали и наделали столько шума, что разгневали преподавателя, запрещавшего танцевать в эти часы. При его появлении все кинулись врассыпную, и только один Петя замешкался. На вопрос: кто именно танцевал — мальчик отвечал, что танцующих было так много, что он никого не запомнил. Преподаватель, Иосиф Берар, который вел литературу и французский язык, был любимым учителем Пети, и мальчик долго еще потом раскаивался в своем обмане. По словам композитора, Берар, человек почтенного возраста, обладал исключительно ангельской добротой («настоящий ангел доброты»), и отчасти благодаря его влиянию десятилетний Петя снова начал писать стихи по-французски, как это было еще при Фанни. Сохранилось одно из стихотворений этого периода, наивное, но искреннее:
Когда молюсь от сердца я,
Господь мою молитву слышит.
Молитва наша есть сестра.
Она, как свет,
Нам душу освещает.
Вместе со своими соучениками Петя побывал на балу в Дворянском собрании, где впервые близко увидел императора Николая I. На балу было очень весело, мальчик танцевал и участвовал в лотерее — выиграл игрушечного солдатика в треуголке и «ризинку (sic), абделанную (sic) слоновой костью». В июне 1851 года Петю пригласили погостить в деревню, однако главной темой писем родителям явилось страстное желание вернуться в Петербург. Наконец в сентябре его отец ненадолго приехал в столицу для устройства личных дел. Жизненные условия в Алапаевске оставались тягостными. А Саше и Ипполиту пора уже было поступать в школу. Поэтому Чайковские начали искать способ вернуться в Петербург.