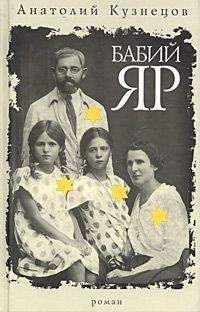Ознакомительная версия.
Франц нахмурился.
– Это не есть зольдат. Это есть бандит, стыдно немецкий нация. Мы есть зольдат-фронтовик, артиллерист. Война – «пиф-паф». Матка, киндер – «пиф-паф» нет.
Герман вынул из бокового кармана губную гармошку, заиграл. Франц все пил вино, с трудом, но упорно подбирал слова, рассказывал, как они зверски устали. Они втроем сначала были в Норвегии, потом воевали в Африке у Роммеля, а сейчас их сняли с того, Западного фронта. И везде им приходилось воевать:
– Майн готт, матка! Здесь – война! Там война! Война, война.
Этот Франц был серьезный, мужественный, словно просоленный, словно насквозь пропахший порохом, я его побаивался. А вот молодой Герман, всего на каких-нибудь года три старше меня, – этот был наивный и симпатичный, как мой Болик, и он разговаривал больше со мной.
– Франц есть фон Гамбург, их ист фон Берлин, – гордо сказал он. – Я уже год воевать!
– А страшно воевать? – спросил я.
Он улыбнулся:
– Говорить правда – страшно. Франция есть нет очень страшно. Россия есть страшно.
Он немедленно достал фотографию, где снят с отцом: очень солидный дядя в шляпе, с палкой, и рядом с ним робкий костлявый мальчишка в коротких штанах на фоне какой-то берлинской площади.
Мать спросила, где фронт и сдадут ли Киев.
Франц сразу помрачнел. Нет, Киев не сдадут. Фронт здесь, в лесу. Но русские в Киев не войдут никогда. Будет ужасный бой. Уж если перебросили войска из самой Франции, о, тут будет такое! Да, тут будет Сталинград, только для русских. Он подумал и, посидев немного, повторил, выговаривая довольно четко: Сталинград.
Мама сказала:
– Седьмого ноября самый большой советский праздник.
– Йа, йа! – воскликнул Франц. – Совет хотеть взять Киев праздник – Октябрь. Но они нет взять, они умирай.
Мне стало тоскливо. Он не врал – охота ему была! И они отнеслись к нам, как люди. Это был серьезный разговор. Я спросил:
– А если возьмут? Вы же отступаете?
– Йа, йа, понимай, – серьезно сказал старый Франц. – Вы совет ожидать, но я говорил, я альтер зольдат: вы уходить, уходить, пожалуйста. Здесь – умирай.
Он стал объяснять, что нам надо бежать куда-нибудь в село или в лес, выкопать ямку, сидеть и ждать, пока отодвинется фронт, а Киев будет превращен в мертвую зону, таков приказ Гитлера.
Франц стучал себя пальцем в грудь:
– Это я говорить, альтер зольдат. Я воевать еще Польша. Это все так есть: наступление, отступление. Русский устал.
Водитель спал на кушетке, не раздеваясь. Герман захандрил и отложил гармошку. Франц пьянел. Мы пошли к себе, слышали, что Франц и Герман долго не спали, о чем-то говорили.
Ночью я проснулся от крика. Мать отчаянно звала:
– Толя, Толя! Ох, помоги!
Слышалась возня, полетела табуретка. Сонный, я закричал:
– Кто тут? Кого?
Зажег спичку, сперва ослеп от света ее, потом увидел, как мать борется с рыжим Францем. Он был крепко пьян, бормотал по-немецки, убеждал ее, толкал.
На печи у меня всегда были заготовлены лучины. Я зажег одну и решительно стал спускаться с печи. Рыжий Франц обернулся на свет, пьяными глазами уставился на огонь, задумчиво посмотрел на меня и отпустил мать.
– Криг, матка. Война, нихтс гут, – сказал он. – А!..
И, шатаясь, вдребезги пьяный, ударившись о дверь, вышел.
Мать, дрожа, заложила дверь жердью.
– Он пьяный, он совсем пьяный, – сказала она. – Хорошо, что ты зажег свет. Спи... Спасибо.
Я впервые по-настоящему почувствовал себя мужчиной, который может и должен защищать. Я много раз просыпался до утра, прислушивался, проверял гранаты под подушкой. Высчитывал дни и часы. До праздника 7 ноября оставалось девяносто шесть часов. А вокруг – тишина.
3 ноября, среда
Среда третьего ноября началась великолепным утром. Небо было совсем чистое и синее. Я вышел на крыльцо и буквально захлебнулся этой свежестью, чистотой, утренним солнцем.
Вам знакомо это состояние, когда утром глядишь на небо, и хочется хорошо прожить этот день, а если это выходной, то тянет спешно собираться, заворачивать бутерброды в пакет и двигать на рыбалку или просто на травку.
Это был день решающего боя за Киев, и сейчас, снова переживая его начало, я опять и опять, хоть убейте меня, не могу понять, почему на этой прекрасной, благословенной земле – с таким небом и таким солнцем, – в среде людей, одаренных умом, размышлением, не просто животных с инстинктами, но в среде мыслящих, понимающих людей возможно такое предельное идиотство, как война, диктатуры, терроры, все эти взаимные смертоубийства и садистские издевательства одних над другими.
Да, да, конечно же, все это добротно анализируется специалистами всех «-измов», и с точки зрения каждого великолепно объяснено политически, исторически, экономически, психологически. Все разобрано, доказано, все ясно. Но я все равно НЕ ПОНИМАЮ.
Герман и водитель черпали воду из бочки, умывались, хохотали, плескались. Рыжий Франц ходил помятый, у него, должно быть, после вчерашнего трещала голова; ночного происшествия будто и не было, так он хотел показать.
Мама разложила щепки под кирпичами, стала готовить. При дневном свете вездеход выглядел не страшно, обыкновенный себе вездеход, спереди колеса, сзади гусеницы, кузов под брезентом. Он мирно стоял у дома, глядя на мир внимательно-вопросительными фарами, пахнущий бензином и пропыленный.
Франц и Герман подняли брезент, принялись выгружать из кузова мешки с картошкой. Я крутился рядом, стараясь угадать, зачем им столько картошки.
Но оказалось, что под картошкой лежат снаряды. Или интендант заставил их возить эту картошку, или они сами где-то прихватили это добро, уж во всяком случае, не собирались же они торговать ею. Они выгрузили все дочиста, попросили веник и подмели в кузове. Герман развязал мешок, высыпал на землю пуда полтора, подмигнул мне: бери, мол, это вам.
Вдруг затряслась земля.
Это было так странно и неуместно, что я не успел испугаться. Земля просто заходила ходуном под ногами, как, наверное, бывает при землетрясении, в сарае повалились дрова, захлопали двери. Несколько секунд длилось это трясение земли при чистом небе и ясном утре, и тогда со стороны Пущи-Водицы донесся грохот.
Это был даже не грохот, это был рев – сплошная лавина, море рева. Никогда в жизни больше не слышал ничего подобного, и не хочу услышать: словно разрывалась и выворачивалась наизнанку сама земля.
Каким-то толчком меня выбросило на середину двора, я не понимал: что это, отчего, рушится ли мир, идут ли оттуда валы по земле, как цунами? А немцы тоже заметались, тревожно глядя в ту сторону, но за насыпью было только синее небо.
Водитель быстро влез на кабину, вытянул шею, но тоже ничего не увидел. Тут немцы перекинулись двумя-тремя короткими фразами и быстро, деловито стали загружать картошку и снаряды обратно. Герман побежал в дом, вынес автоматы. Франц достал каски и раздал всем.
Ознакомительная версия.