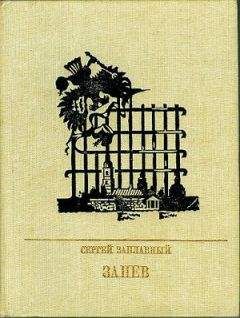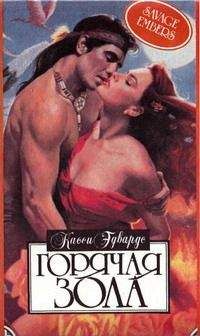Петр обнял обеих, но видел, но чувствовал он только Антонину. Ей и шептал, не в силах побороть бивший его озноб:
— Родная моя, самая лучшая… Я виноват перед тобой. Прости, если сможешь…
— Что ты, милый, — целовала она его в ответ. — Все будет хорошо. Ты ведь вернешься?
— Обязательно вернусь. Жди. Береги себя…
Потом был Николаевский вокзал, пронизывающий ветер с мелким мокрым снегом. Политических заключенных подвезли к вагону, когда уголовные были уже затиснуты в камеры на колесах, когда плач провожающих слился с бранными криками, свистками полицейских, когда конвой начал гнать с платформы детей и женщин, выпинывать на рельсы кульки с гостинцами, которые те пытались закинуть в забранные решетками оконца…
Выходя из тюремной кареты, Петр в последний раз увидел лицо Антонины. Оно вспыхнуло в толпе и погасло.
Долгое время после этого Петр ничего не видел и не слышал. Лишь стук колес, напоминавший удары учащенно бьющегося сердца, проникал в его сознание.
Из оцепенения его вывел голос Ванеева:
— Что с тобой, Петро? Ты сам на себя не похож. А ну-ка возвращайся с небес на грешную землю…
Договорить Анатолий не сумел, его начал бить кашель.
Петру стало стыдно эа свою слабость. Вон ведь как согнула Ванеева болезнь легких, а ничего, держится, не унывает. Остальные — тоже…
Петр обвел взглядом лица товарищей, хотел было повиниться перед ними невесть в чем, но тут заметил незнакомца, имевшего буйную шевелюру и окладистую бороду.
— Кто это? — не сумел скрыть внезапной тревоги Петр.
— Пантелеймон Николаевич Лепешинскпй.
Так вот он каков — единомышленник Сибилевой, Агринских, Плаксиных, Гуляницкого, наставник Антушевского, автор многих народовольческих прокламаций… Петр почувствовал облегчение, дружески протянул руку:
— Волею случая… мы давно уже сведены под одной крышею… приговора. Так будем делить ее по-братски.
— Охотно, — ответил Лепешинский. — Жаль только, крыша железом крыта. Как любил говаривать мой батюшка, деревенский священник: «Живем, поколе бог кроет. Тишь да крышь, мир да благодать божья…»
— А мой батька говорил: «Крой свою крышу, а сквозь чужую не замочит…»
Слово за слово, они разговорились.
Лепешинский понравился Петру. От него исходила какая-то веселая необузданная сила. То и дело подтрунивая над собой, Пантелеймон Николаевич поведал новым товарищам одиссею своей жизни.
Из Петербургского университета его вышибли на четвертом курсе — без права поступления в другие учебные заведения. Чего только он не перенес — бродяжничал, давал уроки в провинции, был конторщиком на Севастопольской железной дороге. Наконец вернулся в Петербург. После долгих мытарств ему удалось устроиться в Государственную комиссию погашения долгов на должность младшего канцеляриста. Однако благодаря способностям и прилежанию скоро пошел в гору, дослужился до места губернского секретаря с окладом в сто рублей, затесался в нижние слои аристократии. Когда его арестовали, министр финансов Витте вызвал управляющего комиссией погашения долгов и попросил дать аттестацию Лепешинскому. Решив, что того ждет очередное повышение, управляющий принялся восхвалять его.
— Где же сейчас находится этот во всех отношениях достойный молодой человек? — заинтересованно спросил министр.
— При исполнении служебных обязанностей! — был ответ.
— А по моим сведениям, на Шпалерной!..
Между прочим, именно на Шпалерной Лепешинский свел интимное знакомство с социал-демократической литературой. События минувшего года настроили его на иной лад — народовольческим туманностям он решил предпочесть роль кустаря-одиночки…
— Ну, такая роль вам не грозит, — заверил его Петр. — У нас есть специалист по кустарным промыслам, — он тронул за руку Кржижановского. — Он выправит зигзаги нашего бюрократического прошлого непосредственно по «Анти-Дюрингу»…
Петр и сам не заметил, как отпустило его давящее чувство угнетенности. Захотелось говорить, смеяться, что-то делать… Почему бы, например, не заняться марксистским образованием нового товарища?
Но Лепешинский отшутился:
— Пожалейте, Петр Кузьмич! Не все сразу. Дайте залетному дрозду освоиться на новом месте, попривыкнуть к орлиному гнездовищу. Есть же иные темы и развлечения.
— Есть! — поддержал его Цедербаум и с ходу предложил: — Назовите несколько пятизначных цифр. А я берусь умножить их…
Затеялась игра. Юлий Осипович давал быстрые и безошибочные ответы. Петр завороженно прислушивался к ним. Так вот незаметно и пролетел путь до Москвы.
В пересыльной Бутырской тюрьме петербуржцев поместили в одной из камер Часовой башни. Камера была вместительная, человек на десять. Она сообщалась с закоулками первого и второго этажей, решетчатые перегородки в них не закрывались, поэтому заключенные свободно переходили из одной камеры в другую или в небольшой дворик для прогулок.
Кого только не приняла башня — польских социалистов, арестованных в 1894 году в Варшаве и Лодзи, литовских национал-революционеров, русских анархистов, народовольцев, социал-демократов… Они сосуществовали рядом, не смешиваясь, а порой и враждуя друг с другом. Многим не хватало дисциплины, согласия, сдержанности. Ссоры вспыхивали непредсказуемо — порой из-за куска мяса в пустой тюремной баланде.
И тогда «декабристы» решили создать у себя на этаже столовую по образу коммуны. Выбрали старосту. Тот заявил старшему надзирателю башни, что отныне он и его товарищи намерены столоваться своими силами и на свои средства, им необходим лишь пропуск в тюремную лавку, посуда больших размеров и кипяток.
К общему удивлению, старший надзиратель, которого все называли просто Акимычем, согласно закивал:
— Похвальное намерение, господа пересыльные. Иные думают: раз здесь перевальное заведение, так и можно жить по животному подобию. Никак нет. Порядок везде порядок. Я человек старого складу, немного где был, а благоразумных людей сразу вижу. Мое главное, чтобы от вас чисто было, тихо и с уважением. Вы уж постарайтесь, а я вам все предоставлю — и воду, и посуду, и свет, и дозволение в лавку…
Как не похож был Акимыч на вахтера, измывавшегося над Петром в Доме предварительного заключения! Он не строжился, не важничал — старичок-домовичок да и только…
И началась в камере организованная жизнь — с общим подъемом, с дежурством на кухне, с занятиями по марксистской философии. Не камера, а политический клуб.
Пример заразителен: за «декабристами» ввели у себя самоуправление польские товарищи, и лишь в нижнем этаже башни остался прежний бедлам. Обитатели «подвала» встретили петербуржцев насмешками, окрестили «сукманами»[19] — за одинаковые костюмы из серого сукна. Такие костюмы «Союз борьбы…» изготовил по мерке для всех, получивших ссылку в Сибирь. Выбирали материю потеплей и подешевле, а получилась особая форма.