Антоний бежит с Акция из-за нее. Она удачно подсветила одно из любимых утверждений Проперция: влюбленный мужчина – беспомощный мужчина, позорно раболепствующий перед своей любовницей. Октавиану, судя по всему, удалось избавить Рим и от этой напасти тоже. Он восстановил естественный порядок вещей: мужчины управляют женщинами, а Рим правит миром. В обоих случаях у Клеопатры ключевая роль. Вергилий писал «Энеиду» в десятилетие, последовавшее после смерти царицы, и пустил за ней змей уже у мыса Акций. У нее не было шанса выглядеть достойно в произведении, которое зачитывалось вслух перед Августом и Октавией. В остальном же история ее жизни формировалась римлянином, которого она видела один-единственный раз, в последнюю неделю своей жизни. Этот римлянин возвысил Клеопатру до ранга опасного врага, и на этой высоте ее плотно заволокло облаками мифа. Она входит в число проигравших, о которых помнит история, но помнит по неправильным причинам [124]. Все создатели мифа были на одной стороне. В следующем столетии влияние Востока и эмансипация женщин станут любимыми темами сатириков.
После смерти Клеопатра продолжает вызывать такие же противоречивые эмоции, как и при жизни. Все успехи приписывают исключительно ее сексуальности. Всегда удобнее было объяснять успех женщины красотой, а не мозгами, низводить ее до умения выбирать сексуальных партнеров – конечно, мужчин. Невозможно соревноваться с могущественной обольстительницей. Против женщины же, обвивающей мужчину кольцами своего змеиного ума, стреноживающей его своими нитками жемчуга, по крайней мере, должен иметься какой-то антидот. Клеопатра нервирует мужчин больше как мыслящий человек, а не как соблазнительница: гораздо безопаснее верить, что она была фатально привлекательна, а не фатально умна. (Написанное в IV веке до н. э. изречение Менандра: «Мужчина, учащий женщину писать, снабжает змею ядом» [112], школьники заучивали и через сотни лет после ее смерти.) К тому же таким образом любое произведение становится интереснее. Задает тон Проперций. Для него Клеопатра была распутной соблазнительницей, «царицей-шлюхой», позже сделалась «женщиной ненасытной похоти и ненасытной алчности» (Дион), грешной блудницей (Данте), «шлюхой восточных царей» (Боккаччо), олицетворением незаконной любви (Драйден) [125]. У Проперция она блудит с рабами. Один римлянин в I веке н. э. утверждал (это ложь), что «античные авторы постоянно говорят о ненасытной сексуальности Клеопатры» [113]. В одном источнике она настолько ненасытна, что часто притворяется проституткой [114]. И она настолько прекрасна и токсична, что «многие мужчины платили за ночь с ней своими жизнями» [115]. По оценке одной женщины, жившей в XIX веке, она была «умопомрачительной ведьмочкой» [116]. Флоренс Найтингейл называла ее «этой гадкой Клеопатрой» [117]. Предлагая роль в кино актрисе Клодетт Кольбер, Сесил Де Милль спросил: «Как вам идея стать порочнейшей женщиной в истории?» [118] Клеопатра появляется даже в книге 1928 года «Грешники сквозь столетия». В общем, у женщины нет ни одного шанса в сражении против легенды.
Личная жизнь неизбежно побеждает политику, а эротика побеждает всех: мы не забудем, что Клеопатра спала с Юлием Цезарем и Марком Антонием, еще долго после того, как забудем, чего она этим достигла. Забудем, что она должна была сохранить огромную, богатую, густонаселенную империю в сумеречные для империи времена, сохранить династию, легендарную и великую. О ней помнят, потому что она сумела соблазнить двух величайших мужчин того времени, а на самом деле ее преступление в том, что она позволила себе те же отношения (они были «всего лишь обманными залогами, выданными с корыстной целью» [119]), в которые спокойно вступали все мужчины у власти. Она сделала это же – и сразу стала извращенкой и подрывательницей устоев. Ну и совершала другие оскорбительные деяния. Например, заставляла Рим чувствовать себя грубым и неотесанным, а еще неуверенным в себе и бедным – уже достаточный повод для тревоги, и без элемента сексуальности. Какое-то время ее призрак витал над римлянами, как предостережение. При Августе институт брака приобрел новый лоск, и это не прибавило популярности памяти Клеопатры, демонической разрушительницы семейных гнезд.
Она вызывала презрение и зависть в равной мере и с равными искажениями; в придуманной про нее легенде мужских страхов не меньше, чем мужских фантазий. От Плутарха пошла величайшая в истории легенда о любви, хотя жизнь Клеопатры не была ни такой трагичной, ни такой романтичной, какой ее до сих пор представляют. Причем она даже дважды роковая женщина. Чтобы Акций стал битвой битв, требовалась «царица-дикарка», замышляющая разрушить Рим. Чтобы Антоний не устоял перед чарами чего-то неримского, требовалась коварная соблазнительница, «что уже погибла сама и вместе с собой готовилась сгубить и его» [120]. Сложно сказать, где заканчивается месть и начинается преклонение. Ее могущество вдруг усилилось: чтобы удовлетворить исторические амбиции одного мужчины, требовалось превратить другого в жалкого раба. Да, она была послушной отцелюбивой дочерью, патриоткой и защитницей, ранней националисткой, символом отваги, мудрой правительницей со стальными нервами, мастером самопиара. Нет, она не строила Александрийский маяк, не умела делать золото, не была идеальной женщиной (Готье), мучеником любви (Чосер), глупенькой маленькой девочкой (Шоу), матерью Христа [121]. Один коптский епископ VII века назвал ее «самой великолепной и мудрой из женщин», более славной, чем бывшие до нее цари [122]. В хороший день говорят, что Клеопатра умерла за любовь, и это тоже не совсем так. В конце концов все, от Микеланджело до Жерома, от Корнеля до Брехта, пытались ее разгадать. Ренессанс на ней помешался, романтизм – еще больше. Она даже Шекспира вывела из равновесия, выжав из поэта его лучшую женскую роль, его лучшую поэзию и последний акт пьесы, посвященный больше Клеопатре, чем Антонию, который один критик назвал «веселой данью безвинному адюльтеру среднего возраста» [123]. Шекспира с таким же успехом можно обвинять в том, что мы потеряли настоящую Клеопатру VII, как можно обвинять в этом александрийскую влажность, римскую пропаганду и ясные лиловые глаза Элизабет Тейлор [124].
Александрия не сразу утратила значение центра интеллектуальных состязаний и философских марафонов – и оставалась им еще где-то сотню лет. А потом стала исчезать. Вместе с ней исчезла юридическая независимость женщин: закончились дни, когда можно было подать в суд на свекра, чтобы вынудить его вернуть твое приданое, если твой (неплатежеспособный) муж сбежал и растил ребенка с другой женщиной. После землетрясения V века н. э. дворец Клеопатры сполз в Средиземное море. Маяк, библиотека, мусейон – все исчезло. Сегодняшняя Александрийская гавань ничем не напоминает о своем эллинистическом прошлом. Нил поменял русло. Город просел больше чем на шесть метров. Даже побережье мыса Акций – которое Клеопатра фактически изучила наизусть – изменилось. Ее Александрия уже давно стала почти невидимкой: либо покоится на дне морском,


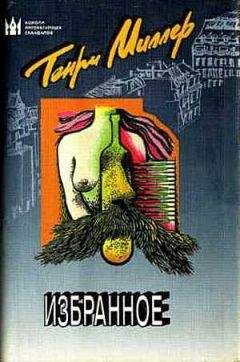
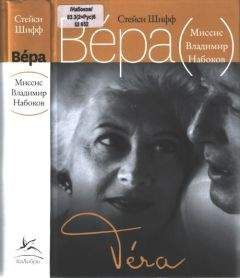

![Сильвия Дэй - Сплетенная с тобой [Entwined with You]](https://cdn.my-library.info/books/2818/2818.jpg)