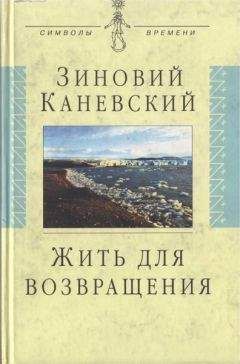Очутившись позднее в палате, я раскрыл книгу и увидел, что редакция внесла в мое авторское предисловие, не согласовав со мной, строки об исторических решениях XXIV съезда партии по дальнейшему хозяйственному развитию Арктики. Я никогда не был диссидентом, не знал этого слова, не знал имен тех первых, очень немногих героев, которые уже проявили себя в дни венгерских и чехословацких событий, кто распространял напечатанные на папиросной бумаге произведения В. Шаламова, Е. Гинзбург, А. Солженицына, и все-таки я уже не позволял себе упоминать в собственных книгах о партии, героях-коммунистах, строительстве светлого послезавтра и т. д. Грешен, в самой первой брошюре это «имело место» — настояли в Политиздате, но там, по крайней мере, обсуждали со мной эту тему и убедили в том, что это поможет прохождению в Главлите (цензуре). Здесь же был самый настоящий редакторский произвол, и, что особенно обидно, исходил он от человека весьма мною уважаемого. Правда, тогда это меня не очень сильно задело — все отступало на второй план на фоне общего самочувствия, почти нестерпимых болей в течение месяца после операции.
Редакторско-цензурный (а точнее сказать — идеологически капеэсэсовский) гнет я особенно остро пережил в истории с Цыкиным. По возвращении с ним из второй поездки в Архангельск я с большим воодушевлением создал первый вариант очерка под названием «На Беломорье лед кололи», показал его Жене… и никогда не увидел напечатанным. Абсолютно не допускающим возражений тоном многоопытный Женя велел мне запрятать его подальше в ящик стола и забыть. Именно тогда он признался, что оформляет выезд всей семьи по знаменитой «израильской визе» за границу. Куда? — он и сам еще не ведает. Знает только, что больше не в состоянии жить в СССР, не в состоянии в прямом смысле слова, с больной, уже не работающей женой и дочкой-школьницей. И при многочисленных «неработающих» патентах на всякие изобретения…
Мы впервые теряли друзей, уезжающих из страны. В те годы это было, скорее, исключением, чем нормой. На службе для таких устраивались общественные проработки с торжественным изгнанием из членов профсоюза или, не дай бог, партии! Не желая навлекать неприятности на Институт, в котором проработал около двадцати лет, Женя заранее ушел в другой, второразрядный, где и подвергся публичному аутодафе. Он этого ожидал и психологически подготовился, хотя нервов все-таки стоило немало. Неожиданным было другое, что его приятно удивило и до слез растрогало: после этого обязательного собрания, где на его голову сыпались чуть ли не проклятия, его новые сослуживцы, с которыми и знаком-то он был всего ничего, устроили ему «отвальную», чтобы выразить уважение и высказать слова зависти счастливчику, сумевшему использовать свое хотя бы четвертьеврейское происхождение. Женя был внуком знаменитого в прошлом революционера Феликса Кона. Поэтому я шутливо назвал предстоящее «Путешествием Кон-Цыкиных» — по созвучию с хейердаловским «Кон-Тики».
(В конце концов, после многомесячного пребывания в Вене и под Римом, семейство оказалось в Австралии, где по сей день живет в городе Перте, на западном берегу. Жизнь вполне благополучна и творчески насыщена. В Гале прорезался талант художницы, уже были собственные выставки. У нее исчезли многие хвори, даже седые волосы на голове почернели! Женя — изобретает, естественно, с учетом австралийской бесснежности. Мы активно переписываемся, несколько раз они звонили, тревожились в дни обоих московских путчей, 1991 и 1993 годов. Женины письма определенно тянут на отдельное повествование, настолько они интересны, даровиты и благородны. Нас он неизменно называет в них «дорогими антиподами, ходящими вниз головами!»)
Еще в 1973 году мой очерк о цыкинском ледовом струге, помимо журнала, увидел свет в книжке «Льды и судьбы». Книга получила неожиданно высокую оценку и заняла первое место на Всесоюзном конкурсе на лучшее научно-художественное произведение года. И это привело к тому, что я получил право на ее переиздание. А в переизданных в 1980 году «Льдах и судьбах» главы «Ледовая пахота» о Женином струге уже не было. Редактор, которому я рассказал, что сейчас Цыкин за рубежом, эмигрант, грубо говоря, тут же решительно изъял главу («не будем дразнить издательско-главлитовских гусей»), а я не стал настаивать, не желая причинять неприятности редактору, хорошему достойному человеку. Впервые я допустил столь отъявленную самоцензуру, и как бы ни самооправдывался, как бы ни уверял себя в том, что иного выхода не было, чувствовал себя препогано.
Мне и прежде приходилось кривить душой при публикациях. Я убирал из текста все, что требовали мои редакторы, а это были, как правило, вполне доброжелательные и нормально мыслящие люди. По их настояниям вставлял в книги об освоении Крайнего Севера советскими людьми упоминания о том, что это была героическая эпоха первопроходцев, строителей днепрогэсов, туркменсибов и магниток, и это совершенно справедливо, только о Цене той героики в нашей стране не говорил никто, как я понимаю — до А. И. Солженицына (если не считать напечатанных на папиросной бумаге Гроссмана, Гинзбург, Шаламова, Сахарова и его единомышленников). Главным для меня всегда было — опубликовать свой материал, ну а если при этом приходилось осторожничать, о чем-то умалчивать, чем-то жертвовать, вычеркивая «опасные» места, я спокойно шел на компромиссы. Да, я даже не пытался бороться, легко соглашаясь с доводами, что иначе вообще твоя рукопись пойдет не в печать, а в собственный письменный стол. Стыдно, конечно, но я и сейчас, в 1995 году, не знаю, что было бы правильнее — уйти с гордо поднятой головой, не согласившись на исправление твоего текста, или все-таки подчиниться требованиям, чтобы хоть частичка добытой тобою правды увидела свет. Для меня эта дилемма усугублялась еще и тем, что, отказавшись от компромиссов, я должен был поставить крест и на своей литературной деятельности, а никакой иной работы я уже для себя не видел.
Но вот что любопытно. Занимаясь самоограничением в творческом и идейном плане, я до поры до времени не только не чувствовал внешней цензуры — я не знал о ее официальном существовании, по дурости либо невнимательности не придавая значения короткому и совсем не зловещему на слух и взгляд словцу «Главлит». До 1975 года, за десятилетие активной литературной работы, я ни разу не обратил внимания на то, что Главлит при Совете Министров СССР — это никак не учреждение, связанное с художественной или любой другой литературой (для этого есть Госкомпечать при том же Совмине), а могущественное Управление по охране государственных тайн в печати, всесильная Цензура, и только она!