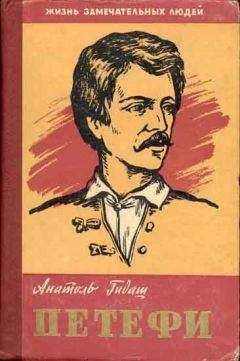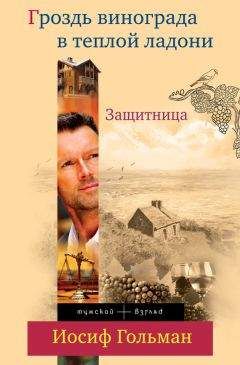— Я предпочитаю, — сказал Вашвари своим солдатам, — сложить голову в славном бою, пусть даже сомнительном по своему исходу; я предпочитаю один принять на себя град вражеских пуль, чем запятнать этот стяг, которому мы присягали. Выставьте усиленный дозор и доложите, если заметите движение в стане врага.
Флаг Вашвари был красным флагом, он развевался над его палаткой. По милости венгерских националистов сыновья двух братских народов стояли друг против друга, полные ненависти, готовые к бою.
Это было 6 июля 1849 года.
На горах высокие сосны зеленели в лучах летнего солнца. Вашвари зашел в свою палатку и сел писать дневник. Некоторое время он писал, потом отложил перо. В откинутом полотнище двери палатки виднелась гора, будто окутанная солнечным светом, как в оправе. Сосны стояли так мирно и спокойно, что спокойствие их было почти пугающим.
«Где-то сейчас Шандор?» — подумал вдруг Вашвари. Ему вспомнился май, пештская улица, озаренная солнцем, маленькая квартирка Петефи и то, как он, Вашвари, поднимался туда, перепрыгивая через три ступеньки сразу, торопясь рассказать про закон о выборах. «Он был прав, — пробормотал Вашвари, — во всем!»
Рядом с ним на одеяле, брошенном на пол, лежало «Путешествие в Икарию» Кабэ. Он поднял книгу и начал читать, потом тряхнул головой, будто отгоняя горькие мысли. Снаружи слышалась тихая песня партизан:
Наша Венгрия дымится вся кругом,
Славной пушки старца Бема слышен гром.
Старый Бем играет зорю на трубе,
Верных венгров подзывает он к себе.
Вашвари отложил книгу. «Человек может сойти со сцены жизни, — пробормотал он, — но дела его остаются… Он знает, что будет жить в памяти благодарного потомства».
Коник мой стоит привязан за корчмой,
Он по грудь забрызган кровью, мой гнедой.
Много пролили мы крови молодой,
Все же Венгрия осталась сиротой.
«Хорошие ребята, они правы!» Вашвари вздохнул. Он опять взялся за свой дневник и стал его перечитывать. В одном месте он остановился. Это была цитата из его же собственной книги «Философия истории», которая вышла в прошлом году. Все предложение было обведено черными чернилами, а сбоку стояло одно слово: «Развить!» Он стал читать с таким интересом, будто это было написано не им.
Ему вспомнилось 15 марта, проливной дождь и собственное выступление перед толпой, обступившей типографию: «Мы все братские национальности… Протянем же искренне руку нашим соседним народам…»
Сердце у Вашвари защемило. Он почувствовал себя, как человек, который потерял все и не знает, когда это случилось. Ведь он-то вступил в борьбу для того, чтобы народы стали свободны, чтоб они побратались меж собой, а теперь вот венгры и румыны стоят здесь, готовые истребить друг друга. «Как же все это случилось? Как мы дошли до этого?»
Снаружи поднялся шум. «Может быть, подошли войска Бема, — мелькнуло в голове у Вашвари, — а может быть, приказ об отступлении, а может, Янку одумался?»
Вашвари вскочил. Дневник его упал на пол. Юноша вышел из своей палатки. В первое мгновение он сощурился от яркого солнца.
— Господин майор, разрешите доложить: неприятель окружил лагерь и приближается к нам.
Вашвари только сейчас заметил перед собой солдата.
— Горнисты! — крикнул Вашвари. — Строиться! В атаку, и мы пробьемся!
Горнисты затрубили, и восемьсот вольных партизан отряда Ракоци выстроились по команде своего вождя Вашвари. Солдаты стояли молча, понимая, что сейчас должна решиться их судьба. Майор встал во главе отряда.
— Ребята, за свободу! Вперед!
Отряд ринулся и напал на врага. Вследствие неверной политики венгерского правительства солдаты двух народов, призванных жить в дружбе, бросились уничтожать друг друга. Уже израсходовали все патроны, вступили в рукопашный бой. К вечеру небольшой части отряда удалось пробиться через окружение. Уцелевшие солдаты, грязные, окровавленные, пустились на поиски войск Бема. А Вашвари был уже мертв. Погиб один из величайших деятелей венгерской революции 1848 года.
В последнюю минуту жизни, когда смерть подошла уже вплотную, в душе этого двадцатидвухлетнего революционер а и героя, точно последний огонек в гаснущем костре, вспыхнули еще раз те мысли, что он провозглашал всю свою недолгую сознательную жизнь: «Нации не станут враждовать меж собой… человечество будет спаяно братской любовью, которая сольет все народы мира в единую семью».
Останки Вашвари никем никогда не были найдены.
* * *
Правительство бежало. Из пештского народного собрания и «решающей битвы» под Пештом не вышло ничего. Приближались австрийские войска. Выехал и Петефи из покинутой столицы, чтобы не попасть в руки немцев, которые — он знал это прекрасно — «высоко оценили» его. Он настолько хорошо знал эту австрийскую «оценку», что даже на могильном кресте родителей велел надписать «Здесь покоятся Отец и Мать», во избежание того, чтобы озлобленная камарилья не выбросила из могилы останки умерших, увидя ненавистную ей фамилию Петрович — Петефи.
А дальше куда идти?
5 июля он вместе с семьей поехал в Мезёберень к своему другу Шоме Орлаи-Петричу и пробыл у него десять дней. Как всегда, в голове у Петефи слагалось множество замыслов. Он хотел написать драму о самой кровавой поре в истории Венгрии, обрисовать эпоху венгерского восстания Тёкёли[103], которое потопил в венгерской крови немец Караффа[104], рассказать, как стойко выдерживал осаду замок Мункач, который защищала с помощью венгров и украинцев мать Ференца Ракоии II — Илона Зрини[105].
Со всех сторон стекались в Мезёберень дурные вести: здесь отступление, там поражение, а тут повальная болезнь опустошает край.
* * *
В комнатушке, которую занимала теперь семья, сидела Юлия Сендреи с младенцем на руках, а Петефи, устроившись возле стола, описывал первые месяцы жизни своего первенца: «Мой сын Золтан родился 15 декабря 1848 года, в двенадцать часов дня, в Дебрецене, на Тринадцатой улице, в доме портного Ормош… Вступив в сентябре в солдаты… я перевез семью в Дебрецен, где стоял наш батальон… Двадцатого декабря отец написал мне из Пешта: «Золтану надо раздобыть саблю, ибо он родился в особенный год, в такой год, когда даже младенцы должны носить на поясе саблю. Мне и прежде хотелось воевать, но сейчас это желание удесятерилось, так как я не хочу, чтоб мой внук попал в руки басурман…»
Петефи кончил писать. Сидел, погруженный в размышления.