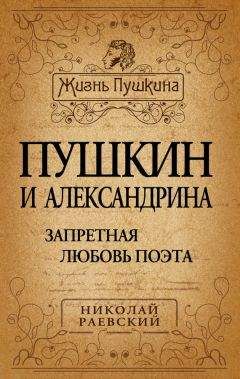После дуэли в неофициальном обращении к министру иностранных дел графу К. В. Нессельроде от 1/13 марта 1837 года Геккерн не только категорически отвергал клеветнические, по его словам, слухи о пособничестве Дантесу, но и предлагал обратиться по этому поводу к самой Н. Н. Пушкиной.
«Пусть она покажет под присягой, что ей известно, и обвинение падет само собой. Она сама сможет засвидетельствовать, сколько раз предостерегал я ее от пропасти, в которую она летела, она скажет, что в своих разговорах с нею я доводил свою откровенность до выражений, которые должны были ее оскорбить, но вместе с тем и открыть ей глаза; по крайней мере, я на это надеялся». Геккерн утверждает также, что он потребовал от сына «письмо, адресованное к ней, в котором он заявлял, что отказывается от каких-либо видов на нее. Письмо отнес я сам и вручил его в собственные руки. Г-жа Пушкина воспользовалась им, чтобы показать мужу и родне, что она никогда не забывала вполне своих обязанностей»[538].
Комиссия военного суда по делу Дантеса не сочла нужным обращаться с какими бы то ни было вопросами к Н. Н. Пушкиной, но ведь она могла поступить и иначе… Пожелание Геккерна о том, чтобы Наталья Николаевна была допрошена, является одной из загадок истории дуэли.
Нельзя также забывать, что обвинения Геккерна в сводничестве фактически всецело основаны на том, что говорила по этому поводу Наталья Николаевна. Никто, например, кроме нее, не мог слышать слов приемного отца Дантеса: «Верните мне моего сына!»
Исследователям приходится верить в то, что женщина и в данном случае сказала правду…
Переходим теперь к роману Пушкиной и Дантеса в изображении Фикельмон.
По словам Дарьи Федоровны, «он [Дантес] был влюблен в течение года, как это бывает позволительно всякому молодому человеку, живо ею восхищаясь, но ведя себя сдержанно и не бывая у них в доме». Период такой «приличной влюбленности» Дантеса, по-видимому, примерно совпадает с календарным 1835 годом.
Барон Фризенгоф сообщил впоследствии племяннице, что «Дантес… вошел в салон вашей матери, как многие другие офицеры гвардии, которые в нем бывали». Вряд ли это верно. Есть и другие поздние упоминания о том, что Дантес бывал гостем Пушкиных, но они мало надежны. Поверим скорее записи Фикельмон, сделанной, во всяком случае, вскоре после дуэли, а не полвека спустя.
В дальнейшем, по словам Фикельмон, «он… постоянно встречал ее в свете и вскоре в тесном дружеском кругу стал более открыто проявлять свою любовь <… > Наконец, все мы видели, как росла и усиливалась эта гибельная гроза! То ли одно тщеславие госпожи Пушкиной было польщено и возбуждено, то ли Дантес действительно тронул и смутил ее сердце, – как бы то ни было, она не могла больше отвергать или останавливать этой необузданной любви».
Если графиня пишет искренне (в чем, на мой взгляд, можно сомневаться), то чувства Натальи Николаевны для нее неясны – то ли… то ли…
Однако уже 5 февраля 1836 года светская барышня фрейлина М. К. Мердер (1815–1870), видевшая Пушкину и Дантеса на балу у княгини Бутера, записывает в дневнике: «…они безумно влюблены друг в друга»[539]. Вряд ли превосходная наблюдательница Фикельмон не замечала того же самого. В данное время мы располагаем первоклассной важности документами, которые вносят полную ясность в вопрос об отношениях Пушкиной и Дантеса.
В 1946 году талантливый французский писатель Анри Труайа[540] опубликовал в своей двухтомной книге о Пушкине[541] найденные им в архиве Дантеса-Геккерна два письма барона Жоржа к своему приемному отцу, находившемуся в то время в отпуске за границей. Советский читатель может с ними ознакомиться по работе М. А. Цявловского (французский текст и перевод)[542]. Письма датированы 20 января и 14 февраля 1836 года. Подлинность их не подлежит сомнению.
В первом письме Дантес впервые признался приемному отцу в том, что он «безумно влюблен». Фамилии Пушкиной он не называет, боясь, что письмо «может затеряться», но прибавляет: «…вспомни самое прелестное создание в Петербурге, и ты будешь знать ее имя. Но всего ужаснее в моем положении то, что она тоже любит меня и мы не можем видеться до сих пор, так как муж бешено ревнив <…>». Дантес умоляет Геккерна не делать «никаких попыток разузнавать, за кем я ухаживаю, ты ее погубишь, не желая того, а я буду безутешен».
Тщетная предосторожность влюбленного! Как раз в это время фрейлина Мердер делает свою запись и, конечно, не она одна догадывается о чувствах влюбленной пары.
Еще интереснее второе письмо. Дантес рассказывает о своем объяснении с Пушкиной, которую он, судя по контексту письма, уговаривал «нарушить ради него свой долг». Наталья Николаевна ответила: «…я люблю вас так, как никогда не любила, но не просите у меня никогда большего, чем мое сердце, потому что все остальное мне не принадлежит, и я не могу быть счастливой иначе чем уважая свой долг, пожалейте меня и любите меня всегда так, как вы любите сейчас, моя любовь будет вашей наградой <…>».
Я вас люблю (к чему лукавить?).
Но я другому отдана…
Легкомысленная, как все считали, Наталья Николаевна в роли Татьяны-княгини… Неизвестно, выдержала ли она эту роль до конца, но в начале 1836 года, несомненно, хотела выдержать.
Находка Труайа показывает, сколько еще неожиданностей таит дуэльная история. Весьма возможно, что, если со временем будут опубликованы дальнейшие новые материалы, исследователям придется отказаться от ряда, казалось бы, прочно установленных взглядов. И, несомненно, прав М. А. Цявловский, говоря: «В искренности и глубине чувства Дантеса к Наталии Николаевне на, основании приведенных писем, конечно, нельзя сомневаться. Больше того, ответное чувство Наталии Николаевны к Дантесу теперь тоже не может подвергаться никакому сомнению».
Дантес действительно «тронул и смутил ее сердце», как с оговорками допускала Фикельмон, но и чувства Дантеса были гораздо серьезнее, чем считалось до сих пор…
Итак, в январе – феврале 1836 года, за год до дуэли, влюбленный кавалергард вел себя очень осторожно (ему, по крайней мере, так казалось) и даже в письмах к отцу боялся назвать имя любимой им женщины. Не совсем понятно, почему осмотрительный и как будто до поры до времени весьма деликатный барон Жорж через несколько месяцев резко изменил свою линию поведения. По словам Фикельмон, он «стал более открыто проявлять свою любовь».
Посмотрим, что кроется за этим дипломатическим выражением жены дипломата.
Необходимо предварительно немного остановиться на хронологии событий и топографии местности. Лето 1836 года Пушкины провели на даче на Каменном Острове (с середины мая и до второй половины августа). 23 мая Наталья Николаевна родила дочь Наталью. Кавалергарды летом стояли в лагере в Новой Деревне и вернулись в казармы 11 сентября. От дачи до Новой Деревни очень недалеко. Нужно было только переправиться через самый северный проток дельты