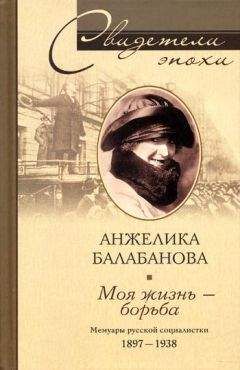Ознакомительная версия.
– Знаю. Товарищ Ленин хотел узнать, не может ли он оказать вам какую-либо помощь. Он знает, что вы нездоровы, и беспокоится, не лучше ли вам уехать при более благоприятных обстоятельствах и чтобы у вас были необходимые деньги.
– У меня есть все, что мне нужно, – сказала я ей. – Но, пожалуйста, передайте ему мою благодарность и наилучшие пожелания.
Я уехала из России в самом конце 1921 года, спустя четыре с половиной года после того, как возвратилась туда с такой надеждой и желанием участвовать в укреплении революции рабочего класса.
По пути из Москвы в Стокгольм со мной произошел случай, которому было суждено оказывать большое влияние на мой внутренний мир в последующие несколько лет; он помог мне подняться из глубин отчаяния, в котором я уезжала из России.
Когда мы сошли с поезда, чтобы сесть на пароход в Ревеле, я зашла в аптеку купить что-нибудь от морской болезни. Девушка за прилавком сочувственно улыбнулась.
– Я не могу дать вам ничего, что вам будет полезно, – сказала она, – кроме одного совета: пойте. Попробуйте петь на пароходе.
На меня большее впечатление произвела ее доброта и человеческий подход, чем ее совет, который, однако, остался в моей памяти.
Я вспомнила ее совет, когда пароход отплыл и начался шторм. Петь? Мне петь? Я не пела никогда в жизни. Затем меня озарило значение ее слов. Оно имело отношение к движению волн. Когда шторм разыгрался, я начала читать про себя стихи, которые выучила в юности, особенно те, которые были о море. Затем я в уме переводила их на разные языки. Ритм этих переводов задавался ритмом движения волн.
Я с удивлением обнаружила, что сумела пережить эти кошмарные часы шторма лучше, чем кто-либо из пассажиров парохода, включая шведских моряков.
Спустя несколько месяцев, когда я все еще была поглощена своей болезнью и новым окружением, которое представляло собой такой контраст по отношению к моему окружению в России, мне нанес визит сотрудник советского посольства, долгое время бывший моим личным другом. Я заговорила с ним о книге, посвященной Леопарди, которую я начала писать, и показала ему часть рукописи. На титульном ее листе были бегло записаны мною несколько стихотворных строф, навеянных творческой судьбой Леопарди.[12]
– Кто это перевел? – спросил он, когда прочитал их.
– Перевел? Что вы хотите сказать?
– Но эти стихи! Ведь это Лермонтов! Прекрасный перевод Лермонтова. Кто его сделал?
Я была сильно удивлена. Музыка и поэзия всегда казались мне наивысшей формой самовыражения человека, но я никогда и не мечтала о том, что смогу создать что-либо в этих областях. Своим педагогическим подходом, заглушающим любые порывы, моя мать и гувернантка убили во мне талант, который у меня мог бы быть к музыке, и я бросила заниматься музыкой в первые годы учебы в школе. В период своей политической активности в Италии я всегда просила аудиторию спеть после моих речей. Эти моменты, когда воодушевление масс находило выход в революционных песнях, доставляли мне большую радость. Но я стояла в толпе и не пела, уверенная, что у меня нет голоса, нет слуха. В России музыка и песни стали чем-то вроде революционного ритуала, почти религиозной церемонией…
Хвалебные слова моего гостя стали для меня открытием. Я начала писать стихи на разных языках с величайшей легкостью. Казалось, меня переполнял и уносил с собой поток рифм.
Мой организм был настолько ослаблен работой и недоеданием, что я в сорок три года чувствовала себя старухой. Теперь для меня началась новая жизнь. Испытывая чистую радость созидания, я чувствовала, что родилась заново. Я осознала, что эта новая деятельность является продолжением моей ораторской деятельности, и поняла, что имели в виду люди, когда писали о моем искусстве оратора. Бессознательно я выражала в своих речах то же самое стремление к гармонии и ритму, которые я теперь выражала в стихах.
Пока я была слишком больна, чтобы работать, я всецело посвятила себя этой новой форме самовыражения. В течение этих месяцев меня потрясала доброта моих шведских друзей. Только в Стокгольме я поняла, что могут сделать четыре года напряженной работы и полуголодного существования с нормальным сильным и здоровым телом. Однажды врач спросил меня, чем я питалась все эти годы, что довела себя до такого состояния. Я не нашлась что ответить. Даже после того как я начала поправляться, я обнаружила, что мне трудно, глядя на еду на столе или в магазинах, не вспоминать, как российские дети толпились у дверей булочных в надежде получить несколько крошек хлеба; как ребенок продавал на черном рынке – то есть на улице – кусок сахара и, не имея сил устоять перед искушением, лизал его время от времени. На деньги, которые он мог за него получить, он мог купить черного хлеба для своей семьи. Не имея сил забыть эти трагические картинки из жизни, я поняла, что мне трудно приноровиться к нормальной жизни.
Когда я окрепла, я почувствовала необходимость вернуться к работе. Среди консервативных слоев населения Швеции все еще царило возбуждение, направленное против моего въезда в Швецию. Ялмар Брантинг подвергся яростным нападкам за то, что разрешил выдать мне визу. Я все еще была членом Коммунистической партии, и любая политическая деятельность в Швеции стала бы нарушением той договоренности, согласно которой мне была выдана виза.
Я решила как можно скорее покинуть Стокгольм. В это время о получении итальянской визы не могло быть и речи, и я подумала о Вене. В Австрии сильно укрепились социал-демократы, и существовала возможность организовать мне визу через старых друзей среди их руководства. Кроме того, стоимость жизни в Вене была гораздо ниже, а я знала, что теперь я должна сама зарабатывать себе на жизнь каким-то иным способом, а не политической журналистикой.
Один итальянский друг из Триеста написал Фридриху Адлеру, лидеру австрийских социалистов, и попросил его использовать свое влияние для того, чтобы я могла получить разрешение на въезд. Без сомнения, министерство иностранных дел Австрии знало о моем разрыве с Коминтерном, и я получила визу без большого труда.
В предвоенные годы веселая и прекрасная Вена очаровывала приезжих со всех концов мира. Великолепие придворной жизни, феодальные отношения между классами, вежливость и колорит жизни особенно привлекали богатых и ветреных людей из более развитых в промышленном отношении стран.
После войны эта притягательность исчезла. После развала монархии страна лишилась своих богатых ресурсов. А ввиду того что промышленность была сосредоточена в Вене и вокруг нее, столица теперь стала умирающим городом, воскресить и восстановить который мог только класс, ведомый верой в свое собственное будущее. Этим классом были промышленные рабочие Вены, приученные выносить трудности и ведомые своей верой в социализм.
Ознакомительная версия.