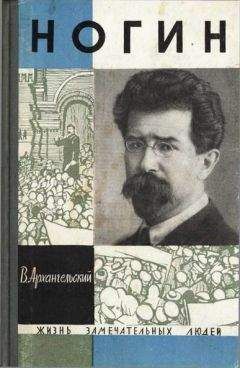О приезде сюда Ольги с ребенком и даже о побеге нечего было и думать. У царя-батюшки держались в запасе эти гиблые места на просторах империи, и отсюда не бегал никто.
Почти без сил сошел с лошади Ногин в Верхоянске 12 июля 1912 года. А в Абый, о котором местный исправник знал не более, чем об острове Пасхи, ехать не пришлось. Сам Верхоянск, иронически именуемый городом, с деревянной церковкой, шестью домами под крышей и десятками юрт, похожих на высокие навозные кучи, считался надежнейшим местом для пребывания ссыльных.
И Ногин остался в Верхоянске…
На северной окраине города — а под Москвой бы его не назвали даже деревней — нанял Виктор Павлович за два рубля в месяц одинокую пустую юрту. «Моя вилла в Окаянске», — называл он ее: стены из наклонных бревен, обмазанные навозом и глиной; дверь вроде люка, с порогом выше колен; два небольших проема вместо окон, где летом висит марля от гнуса, а зимой поставлены пластины из льда — от полярных морозов; нары вдоль стен, как скамьи первого ряда в самом захудалом цирке; ветхие доски пола и камелек из круто замешанной глины, с прочным остовом из прутьев.
Срочно превратился Ногин в плотника и печника, штукатура и стекольщика — уверенно подступала зима: 5 августа замелькали в черном небе первые звезды после ясных и светлых ночей полярного лета, через десять дней выпал снег. В дневнике записал Виктор Павлович 15 августа 1912 года: «Вспоминаются саратовские жары, и как-то странно встречать зиму так рано». И приписал: «Горюй не горюй, ахай не ахай, а жить тут придется. И надо постараться изолировать себя от всего здешнего». Он имел в виду маленькую колонию ссыльных, в которой не было ни одного эсдека, местных властей — исправника и судью, и тех якутов, что не знали ни слова по-русски.
Только один пожилой якут Афанасий нашел дорогу на Макарову «виллу» и помогал «доброму ссыльному» коротать без душевной тоски первую полярную ночь. За корками хлеба изредка прибегала глухонемая дочка соседа Сыбдыра: грязная, с гноящимися глазами, растрепанная. Она царапалась в дверь, как кошка, издавала какие-то дикие звуки, с удивлением осматривала' книги, прятала корки в замусоленный карман ветхой оленьей шубы и убегала. Да заглядывал поговорить или просто помолчать отец диакон Кондинский — человек пожилой и словно не от мира сего: с удивительно ясными детскими глазами и с душой ребенка. Он был единственный русский человек, не помышлявший о грабеже местных жителей. И о нем никто не мог сказать в осуждение ни одного слова.
— Святой или чудак! — посмеивались хищники, обделывавшие всякие делишки в этой окраинной российской глуши…
Со снегами и первыми морозами растеклась повсюду удивительная, неизмеримая тишина — тишина космоса. Люди похоронились по домам и юртам. Ни петух, ни собака не подавали голоса — никто не держал тут эту живность. В одинокой «вилле» у края низкорослого леса круглые сутки горела свеча, трещали дровишки и подвывал рвущийся наружу огонь камелька. В нагретом спертом воздухе разламывалась голова, а за юртой этот воздух казался обледеневшим. И хотя там нередко разноцветной россыпью полыхало северное сияние, смотреть на него не было сил: стыла душа. И Ногину часто казалось, что живет на другой планете или сидит в таком подземелье, куда не долетают привычные» родные звуки, шорохи и шумы.
Иногда подступала тоска, и он тянулся к людям. Как-то зашел к Афанасию и увидал грошовую картинку, изданную к юбилею 1812 года. Клубился белый дым над полем Бородинским; на окраине Москвы, в Филях, сидел кривой Кутузов в белых лосинах, в расстегнутом мундире; в горящем Кремле стоял сложа руки на груди Наполеон в треуголке, с округлым брюшком, прикрытым белым жилетом; и Александр I въезжал в Париж на белом коне. Всюду белый цвет подчеркивал величие событий, как и здесь, в белом безмолвии полярной ночи.
В дневнике Ногин записал: эта грошовая картинка поразила его — не содержанием, конечно, а самим фактом своей конкретности. Значит, где-то далеко-далеко праздновали это событие, и там тоже были такие картинки, и одна из них просто чудом попала сюда — на край земли, за черту жизни. «Но как все это не вяжется со здешней обстановкой!»
Морозы докатились до шестидесяти градусов, и мертвящая тишина кончилась. Хрустальными подвесками зазвенели ледяшки на быстрой Яне, пушечными ударами отметил свою осадку набирающий силу ледовый панцирь реки. И с грохотом, гулом стала трескаться превратившаяся в лед земля.
Не мог и догадываться Ногин, что так удручающе подействует на него полярное одиночество в Окаянске. Пропал сон, трудно стало двигаться. Потом в полуяви начали мучить сновидения. Картины пережитого возникали сполохами, как сияние за стенами юрты. Длинной чередой проходили старые товарищи. И почти каждую ночь навещали его Варвара Ивановна и Ольга. «Сегодня видел во сне тебя, — писал он жене. — Но только радостные впечатления настолько перемешались с тяжелыми, что во сне я плакал навзрыд». Днем невыносимой казалась мысль, что еще три года придется прожить вот так. Но «отдать себя этому настроению, развить его — значит отдаться отчаянию, а я этого не хочу!..»
Тоска бродила рядом; задевала, манила, обольщала, преследовала. А волевой человек стискивал зубы, гнал ее прочь. «Я этого не хочу!» — глухо раздавался голос под куполом юрты. Он заставлял себя подолгу сидеть на морозе, отмечать движение мерцающих звезд и колебания, переливы сияния над горизонтом от запада до востока. Так хотелось понять и объяснить эту красивую загадку природы!
Он узнал, что сына зовут Владимиром: Владей называл его в дневнике и в письмах. На столе стоял теперь портрет жены и маленького мальчика в меховой шубке. Он возвращался в юрту и писал им в дневнике: «Ну, буду ложиться. Спокойной ночи, моя дорогая, милая, целую долго, долго. Целую Владю». А по утрам добавлял: «Ты не думай, что я только прощаюсь с тобой вечерами; нет, каждое утро все время нашей разлуки я здороваюсь с тобой».
Почта приходила раз в месяц, исключая те недели, когда продолжался ледостав осенью и водополье весной. Тогда письма из Москвы и Саратова добирались лишь на сотый день. И только в декабре 1912 года дошли до Ногина две страшные вести — о Ленском расстреле и трагической гибели старого друга Ивана Бабушкина. «Мы живем в проклятых условиях, — читал. Виктор Павлович статью Ленина в «Рабочей, газете», — когда возможна такая вещь: крупный партийный работник, гордость партии, товарищ, всю свою жизнь беззаветно отдавший рабочему делу, пропадает без вести. И самые близкие люди, как жена и мать, самые близкие товарищи годами не знают, что сталось с ним: мается ли он где на каторге, погиб ли в какой тюрьме, или умер геройской смертью в схватке с врагом. Так было с Иваном Васильевичем, расстрелянным Ренненкампфом. Узнали мы об его смерти лишь совсем недавно».