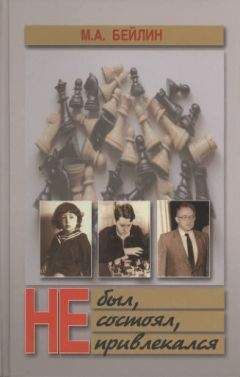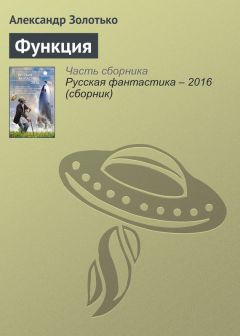Биография у Иосифа Николаевича сложилась нестандартная. В гражданскую войну партизанил на Севере против англичан, был командиром. Англичан прогнали. Его наградили орденом Красного Знамени. Единственным в те годы орденом. Однако награду принять отказался, так как на предложение ехать в дальние края продолжать воевать против белых ответил: «Мы выгнали, пускай те сами выгоняют». Позднее стал членом партии, но орден так и не принял, счел неудобным. Учился в Промакадемии. Женился в партизанскую пору на Юзефе, Юзефе Доминиковне, она тоже была партизанкой. Ладно прожили всю жизнь. Он молчал, а Юзефа Доминиковна говорила за себя, за него и еще дополнительно. Их старший сын Шура учился в Москве в Военном авиационно-техническом училище. Внешне был похож на отца. Он частенько заходил к нам, когда бывали увольнительные. Он был на несколько лет старше меня, но относился ко мне внимательно. Случалось, болел за меня, когда я играл в шахматном блиц-турнире в Парке культуры. Я сыграл удачно, и он был доволен. Дважды мы побывали в театре «Ромэн». Там в спектаклях выступали очаровательные молоденькие артистки. Шура сказал, что надо попытаться познакомиться, но, подумав, авторитетно добавил, что мне рано.
Другой северянин – Иов Иванович – хоть и был настоящим помором, но говорил не умолкая. Он был шумлив и добр. Во время всесоюзной переписи населения, когда почему-то национальность предлагали выбирать по вкусу, он сказал: «Пишите меня норвежином».
Записали. Иов (отец называл его Ёва) говорил, что дед его был норвежином. Вероятно, так и было. Норвежские рыбаки и моряки общались с поморами. Что же касается слова «норвежин», то оно в Ёвиных устах никого не удивляло. Он говорил «диаграфма», вместо диафрагмы, хотя в царской армии служил фельдшером.
В преддверии ежовщины такой выбор национальности мог сыграть роковую роль. Однако пронесло.
Василий Михайлович, тишайший бухгалтер, сказал своей жене: «Не плачь, я все знаю». Он незадолго до этого приезжал в Москву на операцию. Его вскрыли, обнаружили рак, операция запоздала. Ему, как водится, сказали, что все в порядке. Жене сказали правду. Она ухаживала, а Василию Михайловичу становились все хуже. Трудно стало есть, а вернее сказать, принимать пищу. Однажды он отказался от теплого молока, а жена отошла к окну, укрылась за длинной занавеской и тихонько заплакала. До этого Василий Михайлович делал вид, что он про смертельную болезнь ничего не знает. Быть может, думал, что жене от этого легче. Наверно, мало кто способен на такое мужественное поведение.
Голос у Василия Михайловича был такой, будто он опасается побеспокоить собеседника. Говорил он немного. Иногда с интересом слушал меня, мальчишку. Спрашивал о школе, о спорте, о шахматах. А глаза были внимательные, серьезные. Вот только цвета их я не запомнил.
А взгляд врезался в память. Умный и добрый.
Социал-демократы
Приятель, а может быть, друг отца не часто, но регулярно навещал его. Это был седой человек с аккуратным пробором, слепой на один глаз. Он пострадал от казачьей нагайки в 1905 году, во время революционных событий, в которых принял участие. В эмиграции, в Париже, он овладел французским языком. Я знал, что в прошлом он был социал-демократом, то есть меньшевиком, что в Париже ему довелось слышать Ленина, который выступал на французском. С отцом он тихо общался за чаем. О чем они говорили, я, естественно, не знал. Отца политика не интересовала, он к ней относился весьма скептически. Отец звал своего товарища Исаем, а отчества я не помню. Со мной он разговаривал, понятно, очень редко. Мне казалось, что он вообще любил больше слушать. Говорил же тихим голосом и слегка невнятно.
С юных лет меня учили, что есть генеральная линия партии и есть уклонисты. Меньшевики – правые уклонисты. А на вопрос, какой уклон хуже – правый или левый – следовал остроумный ответ: оба хуже.
Как-то Исай поговорил со мной. Я затронул вопрос о социализме.
– Да какой же это социализм? – неожиданно четко и твердо сказал он. – Это же государственный капитализм, да еще в примитивнейшей форме.
Мои представления оставались каменными, а этот разговор был каплей информации. Из тех капель, которые точат камень.
Другой знакомый мне бывший социал-демократ отцовского возраста был просто соседом. До революции он был активен, потом бежал от тюрьмы за рубеж, а после революции стал беспартийным и честно прослужил на заводе экономистом до преклонных лет. Он держался с достоинством и если говорил, то тоном, требующим уважения. Как-то мне, нетерпеливому, он рассказал, как Моисей-пророк сорок лет вел свой народ из египетского рабства в землю обетованную. Вел так долго, хотя путь был недалекий, потому что не хотел, чтобы рабы вступили на землю обетованную. А за сорок лет появилось поколение, рожденное свободным.
По-своему Моисей был прав. Ведь он был пророком и сорок лет для него – очень краткий исторический период. Но евреям в пустыне все эти сорок лет было очень плохо.
В 1960 году современные пророки тоже обещали рай на земле – коммунизм. Через двадцать лет. Привлекательней, чем обещание Моисея.
Однако по объективным причинам дело ограничилось проведением в 1980 году Всемирной Олимпиады в Москве.
Олимпиада прошла и закончилась, и со стадиона в Лужниках улетел на воздушных шариках ласковый Мишка, плюшевый медвежонок, трогательный символ Олимпиады. И больше не бродит по Европе призрак коммунизма.
Творческий интеллигент
Прекрасным человеком был Литератор. Жадным до впечатлений, до людей. Смолоду увлекался девушками-продавщицами. Особенно из молочных магазинов. Кожа у них такая беленькая, прямо светится. Интровертом он не был. Делился своими впечатлениями с друзьями-литераторами. Они обменивались телефончиками, записанными в книжечки в мужском роде. Полезная предосторожность против досужих и любопытных глаз.
Когда Литератор стал солиднее, но еще не настолько, на сколько он хотел, он отпустил бородку. Она его украсила и доставила массу приятных хлопот. Бородка неуклонно подрастала, и все время можно было варьировать ее форму. Для себя, конечно, потому что друзья имели свои бородки, усики, трубки, наконец, и им было наплевать на чужие бороды. А девочки из молочных магазинов с каждым десятилетием становились прогрессивнее в вопросах эстетики, и они одобряли разные формы.
Чудесница-природа с удивительным и непонятным для великолепной волшебницы постоянством каждый год показывала известный всем, но тем не менее поразительный фокус: от зимы оставались маленькие кучки грязного снега, солнце и оконные стекла вдруг начинали сверкать, а люди становились пьяноватыми, беспокойными, наполненными сладостной тревогой и склонными к суете. Они радовались. Радовался со всеми и Литератор. Он, как инженер человеческих душ, лучше простых современников понимал, что прошел целый год, что написанного и напечатанного в прошедшем году мало и не то. Всего два сценария, по которым никогда не будут сняты фильмы. Долгов у него, слава Богу, нет. Дети подросли и поумнели. Но весна напоминала ему о тех надеждах, которые он подавал. Весна теснила и гнала из сознания что-то сварливое и брюзжащее, напоминающее о том, что он ежегодно менял надежды на авансы.