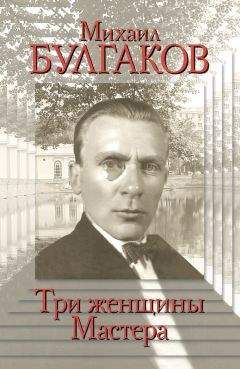Постепенно власть «подминала» под себя многих способных литераторов. Из редких писателей, кто благожелательно относился к Булгакову, был Викентий Викентьевич Вересаев. В прошлом оба работали врачами, это роднило их, что видно из «Записок врача» Вересаева и «Рассказов юного врача» Булгакова. Оба боготворили Пушкина и решили вместе написать пьесу о нем. Название условно звучало: «Пушкин. Последние дни», впоследствии – «Живой Пушкин». Любовь Евгеньевна вспоминала: «Как-то Викентий Викентьевич сказал: “Стоит только взглянуть на портрет Дантеса, как сразу станет ясно, что это внешность дегенерата”. Я было открыла рот, чтобы справедливости ради сказать вслух, что Дантес очень красив, как под суровым взглядом Михаила Афанасьевича прикусила язык». Ей нравился Вересаев: «Было что-то добротное во всем его облике старого врача и революционера. И если впоследствии (так мне говорили) между ними пробежала черная кошка, то об этом можно только сожалеть».
Сначала была договоренность: пушкинист Вересаев – источник всех сведений, консультант, Булгаков – драматург. Отношения между соавторами развивались довольно благополучно, но вот своеобразный подход Булгакова к привычному образу Пушкина тех времен начал раздражать Вересаева. Будучи сам революционером, он хотел придать Пушкину черты борца за свободу. Булгаков, тоже изучивший творчество и жизнь Пушкина, готовясь к литературному диспуту во Владикавказе, считал Пушкина не борцом за свободу, а революционером духа. Вересаев решил вмешаться в область драматурга, но встретил яростное сопротивление. Особым яблоком раздора стал образ Дантеса. Вересаев настаивал на том, что Дантес был тупым исполнителем воли самодержавия, именно оно убило гениального поэта, впрочем, как и впоследствии Лермонтова. Булгаков напомнил Вересаеву, что пьеса называется «Живой Пушкин». Следовательно, главный герой должен быть показан не только как гений литературы, но и человек, обладающий честью, достоинством, человек страстный и ранимый. Живым должен быть и Дантес, ему нельзя запретить любить жену Пушкина. При чем здесь самодержавие, царь? Нельзя укладывать сложные отношения между Пушкиным, Дантесом и женой Пушкина в узкие трафаретные рамки советской семьи. По мнению Любови Евгеньевны, «в конечном итоге Михаил Афанасьевич “отбился” от нападок Викентия Викентьевича: талант драматурга, знание и чувство сцены дали ему преимущество в полемике». Но сама Любовь Евгеньевна видела в Дантесе красивого злодея-убийцу, и Булгаков не спорил с нею:
– Мы тоже живые люди, у нас по тому или иному вопросу могут быть различные мнения.
– Разве это мешает нашей любви? – томно произнесла Люба, обвивая шею Михаила руками.
– Пока не мешает, нисколечки, – улыбался Михаил, вспоминая Тасю, которая называла Любу «нарядной и надушенной» дамой, – увы, наряды обносились и французские духи кончились… «Но Любовь осталась – сидит рядом и когда обнимает меня, я счастлив, но почему-то иногда думаю о Тасе…»
Глава двенадцатая Налет на голубятню
Автор этого повествования прочитал «Собачье сердце» в конце пятидесятых годов, и не в книге, а в перепечатке на машинке, текст получил от друга-студента, с условием никому не показывать и вернуть через пару дней. Я поразился острейшему и глубокому содержанию повести, читал и побаивался, что кто-нибудь чужой заметит меня за этим занятием. Теперь я представляю, какое впечатление произвела эта повесть на апологетов сталинского режима, охраняющих страну от происков Запада и внутренних врагов. Как она попала к чекистам? Можно предположить, что с нею ознакомился кто-то из начальников, которым ее показывал издатель Ангарский в надежде получить разрешение на печатание. Возможно, о ней донес в ГПУ кто-либо из участников чтений у Николая Николаевича Лямина, с которым длительное время дружил Булгаков и в доме которого читал «Белую гвардию», «Роковые яйца», «Зойкину квартиру», «Багровый остров», «Мольера», «“Консультанта” с копытом», легшего в основу романа «Мастер и Маргарита», и, конечно, одно из своих лучших произведений – повесть «Собачье сердце». Сохранился сборник «Дьяволиада» с трогательной надписью:
«Настоящему моему лучшему другу Николаю Николаевичу Лямину. Михаил Булгаков, 1925 г. 18 июля, Москва».
Михаил предупредил Любу, что у Лямина его будут слушать люди «высшей квалификации». И Люба действительно оказалась в кругу известного шекспироведа М. М. Морозова, преподавателя римской литературы Ф. А. Петровского, поэта и переводчика С. В. Шервинского, искусствоведов А. А. Губера, Б. В. Шапошникова, А. Г. Габричевского, познакомилась и подружилась с «бесконечно милой» внучкой Льва Толстого Анной Ильиничной Толстой. На слушание приходили актеры: Москвин, Станицын, Яншин, Мансурова… «Читал Михаил Афанасьевич блестяще, – вспоминала Любовь Евгеньевна, – но без актерской аффектации, к смешным местам подводил слушателей без нажима, почти серьезно, только глаза смеялись…» Он, разумеется, не подозревал, что среди его замечательных слушателей может затесаться стукач. А Люба вообще не считала произведения своего мужа опасными и вредными для дела революции. Она гордилась Михаилом, видя, какие люди и с каким интересом воспринимают его творчество. Поэтому в дневнике записала: «Время шло, и над повестью “Собачье сердце” сгущались тучи, о которых мы и не подозревали». Не думаю, что так же беспечен, как жена, был в отношении этой повести Булгаков. Об этом свидетельствуют его немалые силы, приложенные к вызволению «Собачьего сердца» из лап чекистов, приход которых на голубятню Любовь Евгеньевна описывает весьма легковесно: «В один прекрасный вечер, – так начинаются все рассказы, – в один прекрасный вечер на голубятню, где мы продолжали жить, постучали (звонка у нас не было), и на мой вопрос “Кто там?” бодрый голос арендатора ответил: “Это я, гостей к вам привел!”
На пороге стояли двое штатских: человек в пенсне и просто невысокого роста человек – следователь Славкин, его помощник по обыску. Арендатор пришел в качестве понятого. Булгакова не было дома, и я забеспокоилась: как-то он примет приход “гостей”, и просила не приступать к обыску без хозяина, который вот-вот должен прийти.
Все прошли в комнату и сели… Вдруг знакомый стук. Я бросилась открывать и сказала шепотом М. А.:
– Ты не волнуйся, Мака, у нас обыск.
Он держался молодцом (дергаться он начал значительно позже). Славкин занялся книжными полками. “Пенсне” стало переворачивать кресла и колоть их длинной спицей.
И тут случилось неожиданное. М. А. сказал:
– Ну, Любаша, если твои кресла выстрелят, я не отвечаю. (Кресла были мною куплены на складе бесхозной мебели по 3 р. 50 к. за штуку.)