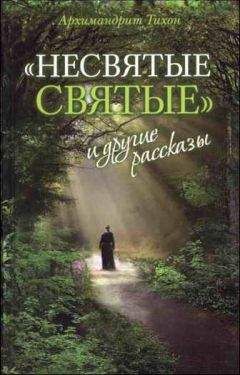Когда мы примерили их к оконному проёму, они, естественно, оказались слишком длинными.
– Видишь, отче, они не подходят.
– А ну-ка, сынок, замерь ещё раз.
В мастерской он на этот раз велел мне отпилить доски меньшего размера.
– Отче, рама выйдет меньшей, чем надо.
– Ты, новичок, будешь мне указывать?
Рама получилась маленькой.
– Видишь, отче, я был прав.
– Давай, монах, снова меряй.
К моему смущению, он велел мне напилить доски еще большие, чем в первый раз. Я подумал: «Боже мой, что нужно этому человеку? Он что, сумасшедший?» На этот раз я ответил:
– Как благословите.
Тогда старик поднял свою седую голову и сказал мне:
– Ну наконец-то! После того, как мы перепортили кубометр дерева, ты научился говорить «как благословите»».
Когда я с ним познакомился, старец вырезал кресты.
– Отец Паисий, тебе это рукоделие помогает молиться?
– Даже очень. Когда я вырезаю тело распятого Христа, то сам переживаю Его страдания: резец и стамеска становятся письменным прибором, который описывает их не на бумаге или дереве, но в моём сердце. Это приводит меня в такое состояние, что я забываю даже о своих естественных потребностях.
Старец Паисий был полной противоположностью пустыннику Ефрему Катунакскому. Хотя оба они искали безмолвия, но отец Ефрем всегда говорил из опыта молитвы, а отец Паисий пользовался также сведениями, полученными от своих образованных посетителей. Не думаю, что кому-то было бы легко жить вместе с ним. Его простота делала общение с братией лёгким, но не всегда. Когда он бывал грозен, то нужно было сразу бежать, пока тебя не настиг ураган.
Одному брату он рассказал о своём последнем плотском искушении: «У меня было искушение, – говорил он, – на протяжении пятнадцати дней. Ни днём, ни ночью не оставлял меня злой дух плотской нечистоты. Наконец я выбился из сил. Подняв крестообразно руки, я закричал: «Господи, я сейчас сдамся!» За этим последовало сильнейшее истечение, и с тех пор плотское искушение перестало меня тревожить».
Он нам советовал: «Когда вы хотите причаститься, то не спите ночью, чтобы во время сна с вами не случилось такого искушения».
В Дохиаре он был лишь один раз в жизни, и удивлялся красоте этого монастыря. Действительно, Дохиар – настоящая лавра.
После того как я стал в нём игуменом, мы виделись всего два раза. Старец Паисий давал мне оружие для войны, но не давал пуль. Он всегда говорил: «Ничего не говори, не передо мною тебе надо открываться».
Его стиль духовной жизни не подходил моему характеру, и поэтому я всегда предпочитал свой монастырь и свою келью.
Людям он помогал больше в формировании их характера, в догматических вопросах предпочитая молчать как перед малыми, так и перед великими. У него было несколько завышенное мнение о нашем народе, и это мне не нравилось, хотя понять его было можно. Этим он напоминает мне некоторых современных старцев, которые говорят о грядущих войнах, голоде и стихийных бедствиях, а люди, послушав их, бегут запасаться продуктами, чтобы можно было всё это пережить. Лично я считаю это напрасным запугиванием, которого не должно быть у монахов в их отношениях с мирянами, ведь нам положено приводить их в мирное устроение, почему мы и возглашаем на каждом богослужении: «Мир всем».
Последнее невинное дитя Афона
Чтобы описывать жизнь святого мужа, необходимо самому идти его путём; только так можно будет проследить всю его жизнь: дело для меня совершенно невыполнимое. К тому же, внутренняя жизнь настоящего монаха не видна другим, она скрыта и будет явлена только в Царстве Небесном. Монах, как говорят богословы, есть пророк, своей жизнью говорящий о последних днях. Поэтому и на погребении монаха его лицо закрыто покровом, а всё тело – великой схимой, подобно тому, как флагом страны накрывают тела солдат, служивших ей и сражавшихся за неё до смерти. Мы, дети отца Евдокима, познакомились с ним на закате его дней. Мы вместе подвизались, вместе ели на монашеской трапезе, вместе пели в храме. Но кто изгнал его, священника, из алтаря за высокий иконостас? (Я не имею в виду сослужащих, которые, бывает, создают друг для друга проблемы.) Кто слышал немые стоны его души во время искушений? Кто может описать мученичество его совести, как называет монашеский подвиг Афанасий Великий в житии Антония Великого?
Я познакомился с этим преподобным мужем в первые годы моей жизни на Святой Горе. Возможно, он был первым настоящим святогорцем, которого я повстречал: незлобивый, бесхитростный, бескорыстный, не желавший примыкать ни к одной из партий, с прямым характером, необычайно простой. Он был родом из селения Пасалимани на берегу Мраморного моря. Родителями его были Константин и Анастасия Бицью. Он родился в 1914 году, а на Святую Гору попал, когда ему исполнилось четырнадцать лет, так как его семья поселилась по соседству в городке Уранополис. Хотя все монастырские уставы категорически запрещают пребывание в обители юношей, у которых ещё не выросла борода, очевидно, что из этого правила всегда делались исключения, в том числе и на Святой Горе, куда с давних времён запрещён вход женщинам. Отступления от этого правила бывали главным образом в тех кельях, где у этих юношей были родственники.
В скиту святого Димитрия, который относился к Ватопедскому монастырю, в келье святого Пантелеимона, у отца Евдокима были родственники. Маленький Елевферий (так его звали в миру) услышал, что в этой келье монахи делают замечательный лукум, или «скрипучки», как его называли жители Анатолии. Мальчик убежал из Уранополиса (а от него до Святой Горы путь тогда был гораздо длиннее, чем теперь, его проделывали на вёсельных лодках) и оказался в скиту, чтобы полакомиться лукумом. Видимо, этот лукум был таким вкусным, что смог навсегда удержать маленького ребёнка в монашеской келье, особенно в начале юности, когда дьявол показывает нам все царства мира[260]. Я думаю, что этот лукум был только своеобразной приманкой, привлёкшей его к пустыне. На самом деле в сердце у маленького Елевферия и без него было желание посвятить свою жизнь Христу. Он отдавал Ему себя целиком от нежного отрочества и до того дня, когда его тело вернулось к своей матери – земле. Беспечной сельской жизни он предпочёл суровость скита. В те годы в скиту святого Димитрия запрещалось перевозить грузы на вьючных животных. От пристани в монастырь поднимались пешком с тюками на плечах, на это послушание обычно ставили молодых монахов.
В запущенный Дохиар наше монашеское братство, состоявшее тогда из двенадцати человек, вселилось в июле 1980 года. А теперь позвольте мне говорить без прикрас обо всём, чему я стал свидетелем. Для живших в этом монастыре мы были пока ещё никакими. Тогда все другие братства, приходившие туда со стороны, имели какую-нибудь особенность: одно состояло из членов братства «Зои», другое вышло из какой-нибудь иной организации. А у нас ещё не было никаких характерных черт, и от этого нам ещё труднее было сблизиться с жившими в обители старыми монахами. Мы, пришедшие на Афон с гор Эвритании, а начавшие монашескую жизнь вообще на Патмосе, приводили их в растерянность. Представители двух групп, названия которых начинались с буквы «з» – члены братства «Зои» и зилоты, – не могли ужиться со сдержанными святогорцами: первых они побаивались, а вторых выгоняли без разговоров. Отец Евдоким был выше всего этого. Он торжественно принимал нас в своей келье, от всей души, не смущаясь нашей молодостью и тем, что мы пришли со стороны, не шарахаясь от «замоленных», которые явились на Афон исправлять его недостатки. То, что все мы были тогда молоды, было еще одной причиной, мешавшей нам переносить трудности с лёгким сердцем. Старец, не хвалясь перед нами своими подвигами и долгой жизнью на Афоне, приветливо принимал нас вместе со своим послушником, которого тогда звали Германом, а потом, в великой схиме, Игнатием. С радостью на лице, с душевным спокойствием и безупречной вежливостью он нас встречал и провожал, как стыдливая служанка, говоря при этом: «Дай Бог нам снова когда-нибудь увидеться».