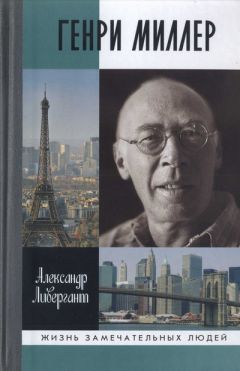Уикс: Ну а теперь, если Вы не возражаете, давайте поговорим о порнографии и непристойности. Вы ведь в этом вопросе являетесь авторитетом. Не Вы ли как-то заметили: «Я за непристойность и против порнографии».
Миллер: Что ж, тут всё очень просто. Непристойность чистосердечна, интимна, порнография анонимна. Я убежден, что надо говорить правду, откровенную, если это необходимо, шокирующую правду, говорить прямо, ничего не скрывая. Иными словами, непристойность — процесс очистительный, тогда как порнография добавляет в жизнь еще больше грязи.
Уикс: Очистительный в каком смысле?
Миллер: Преодоление табу — акт позитивный, живительный.
Уикс: Плохи любые табу?
Миллер: У примитивных народов — нет. В примитивной жизни запреты имеют смысл. В примитивной — но не в нашей. Не в цивилизованном обществе. У нас табу опасны и вредны. Понимаете, цивилизованные народы не руководствуются моральными запретами или принципами. Мы о них говорим, отдаем на словах им должное, но никто в них не верит. Никто не живет по этим правилам, в нашей жизни им нет места. В конечном итоге табу — это всего лишь пережиток, продукт болезненного сознания, предрассудок трусливых людей, которым не хватает смелости жить и которые под личиной морали и религии навязывают нам эти запреты. Мне мир — цивилизованный мир — видится по большей части нерелигиозным. У цивилизованных народов религия всегда фальшива и лицемерна, она превратилась в полную противоположность того, ради чего была создана.
Уикс: Но ведь Вас самого не раз называли очень религиозным человеком.
Миллер: Верно, но нет религии, которой я бы отдавался целиком, перед которой бы преклонялся. Что это значит? Это значит только одно — что я преклоняюсь перед жизнью, что я — за жизнь, а не за смерть. Для меня слова «цивилизация» и «смерть» — синонимы. Когда я употребляю слово «цивилизация», то имею в виду нечто уродливое, извращенное, смехотворное. И для меня цивилизация всегда была таковой. Понимаете, я не верю в золотой век. Если золотой век и был, то золотым он был лишь для очень немногих, для горстки избранных — массы же всегда жили в нищете, были суеверны, невежественны, забиты, удушены Церковью и государством. Я по-прежнему большой поклонник Шпенглера — у него все это написано. Он противопоставляет культуру цивилизации. Цивилизация — это артериосклероз культуры.
Уикс: В напечатанной о Вас лет десять назад статье в «Хорайзоне» Даррелл говорит о непристойности как о литературном приеме. Вы действительно рассматриваете непристойность как литературный прием?
Миллер: Кажется, я понимаю, что он имел в виду. Он имел в виду своего рода шокотерапию. Я, может, подсознательно и использовал непристойность с этой целью, но такого намерения у меня никогда не было. Непристойность я использовал так же естественно, как любой другой способ выразить свою мысль. Для меня это было так же естественно, как дышать, это была часть меня самого. Бывают минуты, когда вы ведете себя непристойно, но ведь бывают и другие минуты. Не думаю, чтобы непристойность была для нас чем-то самым важным, но это — важная сторона нашей жизни, и ее нельзя отрицать, нельзя запрещать, ею ни в коем случае нельзя пренебрегать.
Уикс: Но и преувеличивать ее тоже не стоит…
Миллер: Можно и преувеличить, что ж в этом страшного? Из-за чего мы так беспокоимся, чего боимся? Это ведь всего лишь слова — чего их бояться? Или идеи. Допустим, эти идеи отвратительны — что с того? Разве мало мы всего перенесли? Сколько раз мы находились на грани полного уничтожения вследствие войн, болезней, эпидемий, голода. Чем же нам угрожает увлечение непристойностью? В чем ее опасность?
Уикс: Вы однажды заметили, что непристойность — ничто по сравнению с тем насилием, которое творится на страницах дешевых изданий.
Миллер: Да, все эти сочинения, где смакуются извращения и садизм, мне глубоко отвратительны. Я всегда говорил, что от моих книг нет никакого вреда, ведь они оптимистичны и правдивы. Я никогда не описываю ничего такого, чего бы люди не говорили и не делали постоянно. Откуда я черпаю содержание своих книг? Я же не фокусник, не из шляпы же его извлекаю. Всё, о чем я пишу, происходит вокруг нас, мы дышим этим каждый день. Просто люди отказываются с этим считаться. Какая разница между печатным словом и словом произнесенным? Поймите, эти табу преследовали нас не всегда. В английской литературе было время, когда запреты отсутствовали. Подобная щепетильность проявилась у нас лишь последние 200–300 лет.
Уикс: Но ведь даже у Чосера Вы не найдете слов, которые употребляет Генри Миллер.
Миллер: Зато Вы найдете у него множество примеров веселого, здорового натурализма. Примеров абсолютной свободы слова.
Уикс: Что Вы думаете по поводу интервью, которое Даррелл дал «Парижскому обозрению»? Он сказал, что теперь, задним числом, он находит, что многое в его «Черной книге»[99] непристойно.
Миллер: В самом деле? А вот мне эти непристойности нравятся больше всего. И тогда, когда я читал его книгу впервые, и теперь. А что если Даррелл прикидывается?
Уикс: Почему Вы так много пишете о сексе? Что значит для Вас секс? Что-то особенное?
Миллер: Трудно сказать. Знаете, о сексе я написал ничуть не больше «метафизической дребедени» (как любят выражаться мои критики), чем о многом другом. Сексуальные темы просто бросаются им в глаза. Нет, на Ваш вопрос я ответить не берусь, скажу лишь, что в моей жизни секс всегда играл очень важную роль. Я веду богатую и разнообразную сексуальную жизнь и не понимаю, почему я не имею права касаться ее в своих книгах.
Уикс: Эта тема в Вашем творчестве как-то связана с отказом от той жизни, которую Вы вели в Нью-Йорке?
Миллер: Нет, не думаю. Но когда из Америки, где ты прожил столько лет, попадаешь во Францию, то начинаешь ощущать, что сексом буквально пропитан тамошний воздух. Во Франции секс, подобно флюидам, окружает тебя везде. Я нисколько не сомневаюсь, что американцы ведут столь же богатую и разнообразную сексуальную жизнь, как и любой другой народ, но в Америке секс, как бы это сказать, не разлит в окружающей атмосфере. И потом, во Франции женщина играет в жизни мужчины роль более значительную. У нее более прочное положение, с ее мнением считаются, ее роль в обществе не сводится к роли жены или любовницы. Не говоря уже о том, что француз любит находиться в обществе женщин — не то что англичане или американцы, которые предпочитают мужское общество женскому.