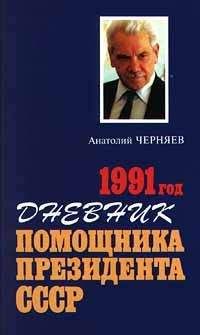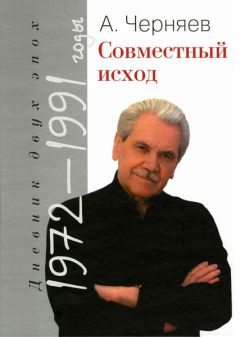Об объединении Германии. Корниенко оценивает произошедшее с позиций чиновника-переговорщика. В то время как Горбачев действовал, исходя из понимания исторического значения объединения Германии для судеб двух великих наций и их отношений на перспективу, думая о будущем Европы и мира, т. е. показал себя и на этот раз государственным деятелем, а не политиком, для которого популярность на данный день превыше всего. Его заботило также, чтобы спонтанный порыв немцев к воссоединению не сорвал все то, что уже было достигнуто в формировании новых, неконфронтационных международных отношений.
И совсем нелепы обвинения в предательстве национальных интересов, будто от германского единства и общенациональной признательности немцев за то, что мы этому не помешали, пострадала наша собственная безопасность.
Что получила Германия в результате объединения — объяснений не требует. От нас она хотела одного — покончить со всем, что напоминало бы отношения «победитель — побежденный». Не так уж много, если учесть, что минуло полвека после войны.
Мы же получили столько, сколько Германия могла бы и не дать, будучи сама уже мощнейшей державой и главным союзником сверхдержавы в НАТО: содержание наших войск в течение трех лет, строительство квартир для офицеров, кредиты, помощь, включая гуманитарную, честную и активную поддержку в международных делах перед «семеркой». В деньгах это исчисляется в сотню миллиардов долларов. Другое дело — как мы этим распорядились.
Замечу попутно: в описании германской политики Горбачева Корниенко ссылается на недоброкачественные источники из вторых и третьих рук. Впрочем, он «при этом» не был, и для меня, присутствовавшего на всех переговорах и встречах, связанных с объединением Германии, его доводы, даже в частностях, выглядят совсем несолидно, демагогически.
Наконец, о позиции Горбачева во время Персидской войны. Опять же — и понятно почему — вне рассуждений Корниенко остается главная установка нового мышления в этом острейшем международном кризисе. Да он и не знает, какая огромная работа была проделана Горбачевым, чтобы не допустить худшего — для самого Ирака в особенности, — чтобы предотвратить рецидив, а то и возобновление «холодной войны». Инерция силовых подходов в мировой политике была еще очень сильна. Горбачев не достиг всего того, к чему стремился, сделав, однако, максимум, чтобы остановить военную машину и решить проблему мирно. Не вмешайся Горбачев с позиций нового мышления в этот конфликт, последствия были бы неизмеримо худшими.
В январе 1993 года я был приглашен выступить на конференции в Иерусалимском университете. Тема конференции: «Харизма лидеров XX века». Понятно, от меня хотели услышать, что я думаю на этот счет о Горбачеве. Свое сравнительно тезисное выступление там я потом развернул в статью, опубликованную журналом «Международная жизнь» (июль 1993 года) под заголовком «Феномен Горбачева в контексте лидерства».
Здесь даю ее в сокращенном виде.
Малопонятная категория «харизмы» здесь не подходит. Хотя некоторые авторы, справедливо связывая с Горбачевым поворот в мировой истории, объясняют сделанное им вмешательством потусторонних сил — одни дьявольских, другие божественных.
От своих непосредственных предшественников в руководстве Советским Союзом Горбачев действительно заметно отличался. Но эти отличия не выходят за рамки обычных сравнений пусть даже между очень разными людьми. Ничего трансцендентного в его особенностях я не увидел.
Правда, когда общаешься с человеком повседневно — восприятие иное, чем на расстоянии. В последнем случае всегда есть место «тайны», чего-то загадочного… Тем не менее я давно пришел к выводу, при котором и остаюсь: не будучи «великим человеком» по набору личных качеств, он сделал великое дело. С исторической точки зрения это важнее.
Горбачев ведь не принес с собой завораживающей идеи — ни как Хрущев с его «коммунизмом» в два скачка к 1980 году, ни как Сталин, который с помощью лжи, изоляции страны и страха убедил миллионы людей в том, что мы благодаря ему, Сталину, самые «правильные», самые «справедливые» и самые «хорошие».
Начиная с марта 1985 года все проистекало из знаменитой потом горбачевской фразы: «Так дальше жить нельзя». Правда, в самой этой мысли таилась крамола: как это так — «развитой социализм», а жить в нем нельзя?!
Важно, однако, что и общество, уставшее потешаться над Брежневым и Черненко, униженное материально и сгорая от стыда за то, как и кто правит страной, чувствовало или понимало, что действительно нельзя дальше так жить. Это стало фактом обыденного сознания.
А как? Как жить? Что жить надо лучше и честнее — это ясно. Но как к этому идти? Никакой на этот счет харизматической идеи у Горбачева не было.
Но у него были огромный опыт работы внутри системы и неуемная внутренняя энергия деятельной натуры. И у всех у нас был марксизм-ленинизм, из которого на разных этапах старались что-то выжать, чтобы оправдать экспромты и эксперименты над великой страной…
От настоящей, современной социальной науки мы давно оторвались. А марксизм-ленинизм учит все начинать с базиса. Вот Горбачев и начал с машиностроения, в котором увидел панацею и которому летом 1985 года посвятил специальный Пленум ЦК. Предполагалось, что, улучшив положение в этой сфере, мы получим современную технику для всех остальных отраслей, и экономика пойдет в гору со всеми вытекающими…
Ну, конечно, плюс наши привычные методы: мобилизовать, показать пример, возглавить, наладить дисциплину, лучше работать каждому на своем месте, организовать выполнение плановых заданий и взятых обязательств и т. д.
Чем кончилось — другой вопрос. Я здесь об этом — для того лишь, чтобы напомнить: в принципиальном плане речь шла о том, чтобы заставить систему работать. Сама она ни малейшему сомнению не подвергалась.
Отсюда и горбачевская терминология: ускорение, динамизация, совершенствование, улучшение… Термин «перестройка» как политическая категория появился не сразу, хотя сам Горбачев произнес это слово еще в 1984 году, будучи в гостях у Тэтчер.
Но оно недаром ведь непереводимо на иностранные языки. Ни «модернизация», ни «реконструкция», ни «переделка», ни «обновление», ни «реорганизация», ни «преобразование» или «преображение», ни «реформа» не передают его полного смысла.
Эта неопределенность (как и потом расплывчатость термина «гласность», которая не идентична свободе слова) объясняется идеологической заданностью — и «внутренней», личной, и «внешней» — от социально-политической среды.