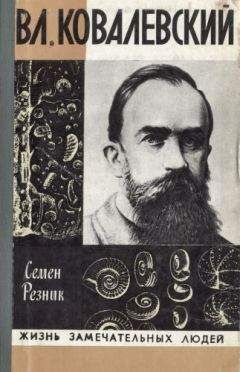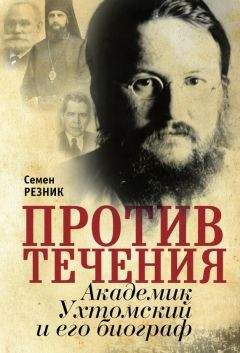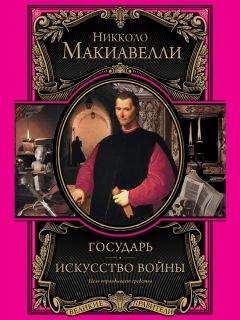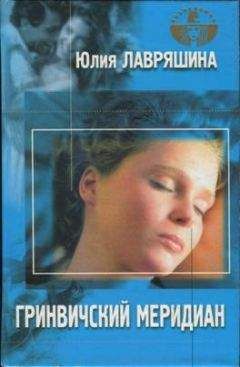Но, когда подошло время ехать, со свойственной ему непоследовательностью вдруг переменил решение. Написал, что дорога ему не по карману, да и надо надписать этикетки к образцам в геологическом музее...
Брат продолжал настаивать на его приезде. И, не понимая до конца страшной перемены, происшедшей во Владимире, словно соль сыпал на раны. Убеждал, что если уж он твердо решил остаться в Москве, то пусть не этикетки надписывает (это с успехом выполнит и его ассистент Павлов), а принимается за диссертацию.
«Никакой ведь особой воодушевленности тут не нужно, — уверял Александр Онуфриевич, — простая казенная работа, как и всякая другая, которую человек может делать даже в тюрьме, а не то что сидящий в своем музее».
Владимир махнул на все рукой и поехал в Одессу.
Фуфа тотчас узнала его и светилась искренним счастьем оттого, что приехал папа. За время разлуки дочь мало выросла, но очень развилась, уже научилась читать, и Владимира Онуфриевича забавляло то трудолюбивое усердие, с каким она тыкала пальчик в каждое печатное слово. В четыре года она легко считала, и он увидел в этом «утешительный» признак, «что она напоминает своими способностями больше Софу, чем меня».
В теплом семейном кругу он немного успокоился, оттаял душой, и, хотя мрачные мысли не могли вдруг исчезнуть, они все же отступили куда-то назад. Он провел в Одессе если не счастливый, то все же благополучный месяц. Но, увы, то был последний благополучный месяц в его жизни...
Вернувшись в Москву и наведя справки о рагозинском деле, он узнал, что, возможно, «судебного преследования вовсе не будет». Но лекции, хотя по настоянию брата он и написал их в Одессе, опять пошли очень плохо. И он не знал, «как сделать это интересней и лучше».
Первая его лекция в начавшемся семестре состоялась в четверг, 20 января, но он с трудом дотянул ее до конца. И на каждую следующую шел, как на жестокую пытку. Затем, сказавшись больным, пропустил две лекции и наконец прочел кое-как о пресмыкающихся триаса, «но скомкал такой хороший предмет» в одну лекцию. Об этом он написал брату 31 января. И видимо, в тот же день принял роковое решение.
Ибо 1 февраля датировано его прощальное, но не отосланное письмо...
Настроение его последующих писем «такое печальное, что ужас», как отозвался Александр Онуфриевич. Однако собственные заботы, большая семья, внезапная болезнь Фуфы, за которую он боялся больше, чем за своих детей, не давали ему постигнуть истинный ужас, в каком обретался смятенный дух Владимира.
Отчаявшись создать что-то путное, он, как за якорь спасения, ухватился за давно опубликованную часть работы о пресноводном меле. Почему бы не защитить ее как докторскую диссертацию? Ведь его исследования «дали возможность приподнять хотя немного ту завесу, которая закрывала до сих пор от глаз геологов состояние, в котором находилась суша в продолжение мелового периода». Это подлинно новаторская работа, а не пустое «переписывание», за какое удостаивались ученых степеней многочисленные синцовы...
Ковалевский поговорил с Богдановым, Усовым и другими товарищами по университету. И они отвечали, что согласно правилам можно защищать любое, хотя бы и давнее, исследование, не фигурировавшее в качестве диссертации. Так что формальных препятствий не было.
Но Владимиру Онуфриевичу хотелось знать, что думают о его работе компетентные геологи, поэтому он обратился с вопросом в Петербург, к Иностранцеву. И вот Ковалевский вскрыл столь важный для него пакет.
«Милостивый государь Владимир Онуфриевич! — прочитал он. — Прошу извинения, что так долго не отвечал Вам на письмо, но вот уже вторую неделю состою присяжным заседателем, а потому и не имею времени. Так как Вы просите моего откровенного мнения, то считаю долгом сообщить Вам, что исследования над «пресноводными меловыми образованиями Франции», по моему мнению, не могут быть принятыми как докторская диссертация, относительно которой я имею право предъявить более значительные требования, а в особенности для русского доктора геологии. Примите уважение в истинном моем почтении. А.Иностранцев».
Так добавилась еще одна капля цикуты в чашу, которую приготовил себе Владимир Онуфриевич.
6
На 15 мая 1883 года в Москве назначили коронацию Александра III. Власти боялись эксцессов и на всякий случай распорядились к 7 мая закончить экзамены в университете, чтобы студенты разъехались на каникулы до начала торжеств. Это значило, что лекционные курсы следовало завершить не позднее 20 марта. Владимир Онуфриевич увидел в этом большое облегчение для себя: недолго уж оставалось тянуть.
Но по мере приближения каникул перед ним встал новый вопрос: что делать дальше?
Среди материалов, доставленных ему из-за границы, был череп какого-то никем не описанного ископаемого (по письмам нельзя установить, какого именно). Брат звал Владимира привезти этот череп в Одессу и в спокойной обстановке подготовить научную статью. Но Владимир Онуфриевич не чувствовал себя способным выполнить «Zusammenstellung»69, то есть применить свой излюбленный сравнительный метод.
Может быть, отправиться за границу? Но он тут же отверг и эту мысль. «Ехать к Циттелю или в Вену, я думаю, бесполезно, — написал он брату, — я не надеюсь, чтобы я был теперь в состоянии написать работу, годную для докторской диссертации, ведь все же надо мною висят разные грозы, и как там ни старайся, а нельзя выкинуть их совсем из головы, для этого надо было бы снять свою голову и надеть другую, и как бы это было хорошо!»
Самым страшным теперь, но и неудержимо влекущим стало вглядывание в свое прошлое, которое представлялось роковой цепочкой ужасных безумств.
Зачем не ушел из Правоведения, когда тянуло в науку? Зачем занялся изданиями? А отношения с Евдокимовым, за которым так и остался долг больше 20 тысяч? А постройки, «товарищество»?
А наука? О, и здесь Владимир Онуфриевич не хотел дать себе ни малейшего послабления.
«В научных занятиях мой величайший самообман состоял в том, что я думал, что знаю то, что прочитал. Читал я много и думал, что и знаю много; теперь же оказывается, что прочитать и даже понять прочитанное не есть еще усвоить себе его; память ослабела, и все прочитанное ушло, оставив лишь воспоминание в общих чертах: подробности же все исчезли; а ведь нельзя думать научно, не имея в голове всех подробностей.
Ты был счастливее тем, — объяснял он брату, — что все, касающееся твоей специальности, переработал ножом и микроскопом, ну, да и не отставал от этой работы 20 лет. Что же сделал я? Какая же была моя дорога? Почему я, оказавшись неудачным или очень неаккуратным издателем, вообразил, что гожусь в двигатели науки?»