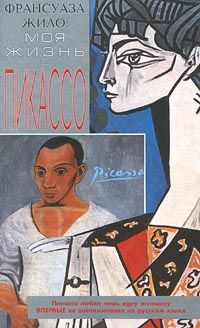В конторах кончился рабочий день. Люди ходили среди занятых столиков, ища свободного места. Я находила какое-то успокоение в движении этих людей. Они словно бы отчасти рассеивали враждебность Пабло, которую я ощущала даже на расстоянии, закрывали видение бабушки, беспомощно лежащей на больничной койке. Я разглядывала их жесты и выражения лиц, и мне пришло в голову, что у большинства их такое же бремя на душе, как у меня, у кого-то значительно тяжелее. Что все мы движемся в одном направлении, делаем одно и то же дело в различных формах, и я не более одинока, чем они — в той же мере, но не более. Часть моего душевного бремени спала. Я с полной ясностью осознала одиночество каждого человека, нашу полную взаимозависимость, и это укрепило во мне решимость продолжать прежнюю жизнь. После этого я ощущала себя гораздо менее несчастной, чем в предыдущие два года.
Приехав в Валлорис. я сразу же написала Пабло о том, что сделала. За него мне ответила Луиза Лейри, в ее письме говорилось, что я повела себя глупо, что Пабло глубоко обижен и говорит всем — раз я приезжала, то должна была повидаться с ним, что раз этого не сделала, значит, очевидно, виделась с другими людьми, которых предпочитаю ему, и что я совершенно не думаю о его работе. Возвратясь в Валлорис, Пабло спросил, с чего это я решила, что он стал бы меня бранить, если б я сообщила ему, что приехала в Париж повидаться с бабушкой. Я ответила, что уже наслушалась его брани и уже наизусть знаю, как он на что реагирует.
- Конечно, я мог бы сказать что-то в этом роде, — заговорил он. — Сердиться мне свойственно. Но я всегда говорю в таких случаях не то, что думаю. Ты должна это знать. Когда я повышаю голос, говорю неприятные вещи, то лишь затем, чтобы расшевелить тебя. Я бы хотел, чтобы ты сердилась, орала, скандалила. Но нет. Ты отмалчиваешься, становишься саркастичной, резковатой, отчужденной, холодной. Хоть бы раз увидеть, как ты даешь волю чувствам, смеешься, плачешь — играешь в мою игру. — И раздраженно потряс головой. — Никогда я не пойму вас, северян.
Но играть в его игру я не могла. Тогда я еще не полностью изжила последствия своего раннего воспитания. Мне всю жизнь внушали, что проявлять чувства на людях нельзя. Сердиться, терять над собой контроль, устраивать истерику в присутствии даже любимого человека было так же немыслимо, как появиться в костюме Евы перед множеством незнакомцев; для такого проявления эмоций я была все еще замкнута в собственной раковине. И часто задумывалась, не являются ли все омары и рыцари в доспехах, которых Пабло писал и рисовал в тот период, ироническим символом его мыслей обо мне в этом отношении.
Почти два года спустя, когда я сообщила Пабло, что собираюсь уйти от него, он вспомнил тот инцидент и сказал:
- Ты тогда приняла это решение.
Что было далеко от истины, так как в тот день я решила остаться.
Думаю, я любила Пабло, как только может один человек любить другого, но впоследствии он упрекал меня, что я никогда не доверяла ему, и подтверждение этому видел в том инциденте. Пожалуй, он был прав, но мне было бы трудно относиться к нему по другому, поскольку я вышла на сцену, перевидав трех других актрис, которые пытались играть ту же роль и провалились. Каждая начинала совершенно счастливой, с мыслью о собственной исключительности. Я была лишена этого изначального преимущества, так как знала в общих чертах, что произошло с прежними женами Синей Бороды, а чего не знала, он вскоре рассказал. Я была не настолько уверенной в собственном превосходстве над остальными, чтобы позволять себе смеяться над зловещим предзнаменованием. Все же их участь зависела не только от них, но и в значительной степени от Пабло. Моя тоже. У всех у них были совершенно разные провалы по совершенно разным причинам. Ольга, например, потерпела крушение, потому что требовала слишком многого. Это давало основания предположить, что будь ее требования поумереннее и не столь глупыми, этого бы не случилось. Но Мари-Тереза Вальтер не требовала ничего, была очень мягкой и тоже потерпела неудачу. Затем появилась Дора Маар, отнюдь не глупая, художница, понимавшая его гораздо лучше, чем остальные. Но и ее постигла неудача, хотя, как и они, она твердо верила в него. Пабло бросил их всех, хотя каждая считала себя единственной, по-настоящему имеющей для него значение, каждая думала, что их жизни с Пабло неразлучно сплетены. Я видела в этом историческую закономерность: так получалось раньше, так получится и на сей раз. Пабло сам предупредил меня, что любовь может длиться только предопределенный период. Я ежедневно чувствовала, что период нашей уменьшился на один день.
Пабло был прав, говоря время от времени, что я холодная, а меня охлаждало нарастающее сознание, что все, приходящее в обличье хорошего, лишь тень чего-то надвигающегося дурного; что за все приятное придется расплачиваться неприятностями. Не существовало ни малейшей возможности надолго тесно сблизиться с ним. Если он на краткую минуту бывал мягок и нежен со мной, то на другой день становился грубым, жестким. Иногда называл это «высокой стоимостью жизни».
После рождения Паломы в те минуты, когда я хотела способствовать полному нашему слиянию, он резко отдалялся. Когда я в результате замыкалась, это как будто бы вновь разжигало его интерес. Он снова начинал сближаться со мной, не хотел видеть меня невозмутимой, такой близкой к нему, но обособленной от него. Суть проблемы, как я быстро поняла, заключалась в том, что для Пабло всегда должны были существовать победитель и побежденный. Я не могла довольствоваться ролью победителя, думаю, и любой эмоционально зрелый человек не мог бы тоже. Роль побежденного тоже ничего не давала, так как Пабло, победив, тут же терял ко мне всякий интерес. Что делать при такой дилемме? Чем больше я над этим раздумывала, тем сложнее казался ответ.
Летом пятьдесят первого года мне приходилось, несколько раз ездить в Париж, бабушка была серьезно больна, и нужно было обставить квартиры на улице Гей-Люссака, чтобы можно было поселиться там с Пабло и детьми, дабы не допустить еще одной реквизиции. У бабушки была еще серия приступов после первого, последний парализовал у нее одну сторону. Она была едва способна двигаться и почти не могла говорить, но оставалась в здравом рассудке. Я чувствовала, что бабушка хочет мне что-то сказать, но у нее ничего не получалось. Она хватала мою руку и запускала в нее ногти. Я ощущала ее желание говорить. Наконец ей удалось произнести: «Хочу очиститься в твоих глазах».
Это было последнее, что я от нее услышала.
На юг я вернулась первого августа. Несколько дней спустя мы с Пабло были в гончарной. Поскольку наш дом находился не в центре Валлориса, а в холмах над городом, отправленные нам телеграммы доставляли в почтовое отделение, где они успешно пылились несколько дней из-за нерасторопности персонала. Когда стало ясно, что дни бабушки сочтены, мать начала слать мне телеграммы, чтобы подготовить к неизбежному. Две или три из них пришли в почтовое отделение, но поскольку телефона у нас не было, они так там и лежали. Наконец почтовый оператор, узнав, что мы в гончарной, позвонил туда. Когда раздался звонок, я стояла у аппарата. Подняла, не раздумывая, трубку и сказала: «Алло». Оператор ждал, что трубку возьмет мадам Рамье, поэтому без предисловий объявил: «Бабушка Франсуазы скончалась». Я не получала подготовительных телеграмм, отправленных матерью, и эта фраза ошеломила меня. Я тут же поехала в Париж, понимая, что мать будет нуждаться во мне, так как она обожала бабушку.