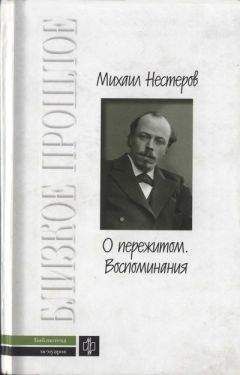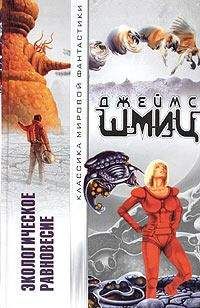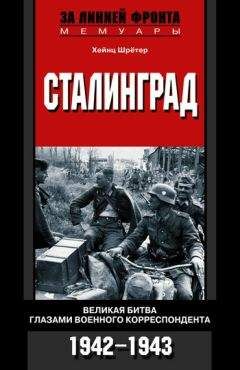Ознакомительная версия.
Однажды уфимские заборы украсились большими афишами, извещавшими о том, что в город приезжает цирк «всемирно известной итальянской труппы акробатов братьев Валери». На площади спешно строили большой круглый балаган из свежего теса. Вскоре начались представления. Народ валом повалил. Стали говорить, что такого цирка Уфа еще не видала. Особенно нравились сами братья Валери: они были отличные наездники, ловкие акробаты. Были ли они такими на самом деле, трудно сказать: мои земляки не были в этом компетентны. Так или иначе, цирк с каждым днем все больше и больше завоевывал себе у нас славу. Скоро уфимцы приметили, что братья Валери стали носить из цирка в «Номера Попова», где они жили, мешки, если не с золотом, то с медными пятаками. Это моим землякам импонировало. Итальяшек полюбили, ими восхищались — они были рослые, красивые ребята.
Слава о них дошла и до нас, детей. Долгие мольбы наши увенчались успехом: нас пустили в цирк, взяли туда и приятеля моего — Николашку. Очарованные, сидели мы с ним. Братья Валери привели нас в полный восторг; их упражнения вскружили нам головы. Первые дни только и разговоров было, что о цирке. Нам как-то удалось еще побывать там, и это нас погубило…
Мы были уверены, что искусство, призвание братьев Валери есть и наше призвание, и решили попытать свои силы — устроить свой цирк в запасном сарае, где зимой хранились телеги, а летом дровни и всякий ненужный хлам. Сарай был «на отлете», вне поля зрения матери.
Главными действующими лицами были мы оба: мы с Николашкой и были братья Валери, остальная труппа была случайная, в нее входил и лохматый, толстый, неуклюжий щенок Шарик. Цирк начал функционировать. Первые дни прошли благополучно, с большим подъемом. Мы, с некоторой опасностью для наших рук, ног, ребер, перелетали с трапеции на трапецию, поднимали тяжести и прочее. Когда же наступал номер Шарика, то он, гонимый неведомой силой, забивался в самый отдаленный угол сарая и доброй волей не хотел его покидать. Мы приписывали это его малосознательности, извлекали его из его убежища, и номер проходил более или менее удачно. Одним из ответственных номеров Шарика было поднятие его на возможную высоту при помощи особых приспособлений, вроде лопаты. Шарик в паническом страхе визжал, выл, пока не терял равновесия, не летел вниз с жалобным воем и не падал на пол. Шарик этот номер не любил, а мы были тверды и настойчивы, пока однажды, во время самого разгара представления, когда Шарик поднят был на головокружительную высоту и неистово там визжал, обе двери сарая растворились и в них предстала перед нами мать, разгневанная, грозная, карающая… Нас обоих выпороли, а Шарик в тот же день был отдан соседям, где не было ни цирка, ни доморощенных братьев Валери.
Помню я 1870–1871 годы, Франко-прусскую войну. Помню эту зиму: она была тревожная и в Уфе. Было много пожаров. По ночам не спали, караулили посменно. На небе сходились и расходились огненные столбы. Было страшно — говорили, что все это к беде.
Получались газеты, все тревожней и тревожней. Пришло известие о несчастной для французов «битве при Седане». Поздней появились картинки во «Всемирной Иллюстрации», изображающие эту битву. Потом, помню, узнали, что Наполеон взят в плен, а затем и война кончилась.
Имена Бисмарка, Мольтке, как и маршала Мак-Магона, Шанзи и несчастного Базена, мы все знали[38]. Все симпатии наши были на стороне французов.
Время шло. Отец и мать стали поговаривать о том, что пора отдать меня в гимназию. Мысль эта явилась тогда, когда родители убедились, что купца из меня не выйдет, что никаких способностей к торговому делу у меня нет. И действительно, я на каждом шагу показывал, как мало я этим делом интересуюсь. Я ничего в нем не понимал. Был в самом малом непонятлив, ненаходчив, рассеян. Надо мной все смеялись, и мне было все равно, есть покупатели или их нет, на сколько продано и как шло дело в магазине. А я ведь был наследником всего дела, дела большого, хорошо поставленного.
Отец, быть может, тоже не был истинным купцом, но благодаря привычке, аккуратности дело шло. У отца не было совершенно долгов, он покупал и продавал только на наличные. Это было, при его характере, лучшее, хотя, быть может, и невыгодное. Отец не любил в деле риска.
Я же, повторяю, с ранних лет чувствовал себя чужим, ненужным в магазине и умел продавать только лишь соски для младенцев да фольгу для икон. Когда этот товар спрашивали — приказчики уступали мне место, и я, зная цену этому товару и где он лежит, отпускал его покупателям, но все же без всякого удовольствия. А тут, кстати, появились слухи о всеобщей воинской повинности[39] и о том, что образованные будут иметь какие-то привилегии.
Итак, моя коммерческая бесталанность и необходимость уйти от солдатчины решили мою судьбу. Я должен был поступить в Уфимскую гимназию. Был приглашен репетитор — гимназист 8-го класса Алексей Иванович Ефимов, первый ученик, все свободное время от своих занятий приготовлявший, репетировавший детей Уфимских граждан. Он кормил своими уроками родителей и любимую маленькую сестренку.
Алексея Ивановича все, знавшие его, очень любили. Он был гимназист солидный. Был некрасив, ряб, неуклюж, но очень приятен, добр, терпелив и умен. Трудно было ему со мной. Особенно бестолков был я в арифметике. Алексей Иванович с необыкновенным усердием преодолевал мою тупость, объясняя мне «правила» и искусно ловя в это время назойливых мух. Я, как показало будущее, не стал математиком. Сам же Алексей Иванович блестяще, с золотой медалью кончил гимназию, затем Академию Генерального штаба и умер в Сибири в больших чинах.
Осенью 1872 года я все же поступил в приготовительный класс гимназии. В гимназии пробыл я недолго, учился плохо, шалил много. Из сверстников моих по гимназии со временем стал известен Бурцев, издатель «Былого»[40].
Из учителей гимназии остался в памяти моей Василий Петрович Травкин, учитель рисования и чистописания. Он имел артистическую наружность: большие, зачесанные назад волосы, бритый, с порывистыми движениями. Несколько возбужденный винными парами, он выделялся чем-то для меня тогда непонятным. Думается теперь, что это был неудачник, но способный, увлекающийся, что называется «богема». Форменный вицмундир к нему не шел.
Мы оба как-то почувствовали влечение друг к другу. Василий Петрович не только охотно поправлял мои рисунки в классе, но, помню, пригласил к себе на дом. Жил он на краю города, в небольшом старом домике, очень бедно, совсем по-холостяцки. И вот он выбрал какой-то бывший у него акварельный «оригинал» замка, и мы начали вместе большой на бристольской бумаге рисунок мокрой тушью. Рисунок общими усилиями был кончен и поднесен мною отцу в день его Ангела.
Вообще Василий Петрович очень меня отмечал за все два года моего гимназического учения. По слухам, позднее В. П. Травкин спился и умер еще сравнительно молодым человеком.
Родители скоро увидали, что большого толка из моего учения в гимназии не будет, и решили, не затягивая дела, отвезти меня в Москву, отдать в чужие руки, чтобы не баловался. Думали, куда меня пристроить в Москве, и после разных расспросов остановились на Императорском Техническом Училище, в котором тогда было младшее отделение.
Стали меня приготовлять к мысли о скорой разлуке с Уфой, с родительским домом… Чтобы разлука не была так горька, надумали меня везти сами.
Родители мои и родственники
Отец мой — Василий Иванович — был человек живой, деятельный, по общему признанию щепетильно честный. В домашнем быту всецело подчиненный воле матери, вне дома, однако, проявлявший, где надо, характер твердый, прямой. Вообще же отец был горячий, своеобычный и независимый. Бывали случаи с ним совершенно анекдотические. Помню, как однажды принял он приехавшего с визитом нового губернатора…
Отец был тогда большим стариком, лет семидесяти, и по положению своему весьма заметным в городе, и новые губернаторы и архиереи делали обычно ему визиты, и отец, смотря по тому, какая слава тому предшествовала, приказывал принимать или не принимать, когда те приезжали к нему.
И вот однажды такой губернатор, с плохой славой, приехал невзначай. Отец узнал о приезде в тот момент, когда его превосходительство уже входил в переднюю, одна из дверей которой вела в зал, другая в кабинет отца, и он, ничтоже сумняшеся, приоткрыв дверь, громогласно скомандовал нашей девушке Серафиме, встретившей уже гостя: «Скажи ему, что меня дома нет…»
Ясное дело, что дальнейшее знакомство при таком приеме продолжаться не могло.
Нередко бывали случаи, что отец особо надоедливым дамам-покупательницам наотрез отказывал продавать модный товар, говоря, что товар этот у него есть, но он «непродажный», и все упрашивания провинциальных дам, «приятных во всех отношениях», не изменяли решения отца.
Ознакомительная версия.