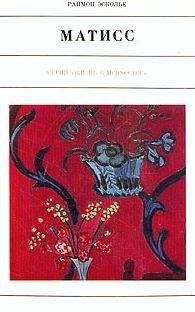1898, 1899… Открытие Средиземноморья, открытие Сезанна… да, но и открытие самой жизни. 1900 год… Материальное положение семьи тяжелое, и чтобы прокормить жену и детей (гирлянды для Гран Пале больше не нужны), Матисс снова намеревается бросить живопись, но дружеские руки поддерживают его и возвращают веру в себя.
Папаша Дрюэ, в то время торговец вином на площади Альма, у которого столовался Роден, проявляет интерес к молодому Матиссу. Берта Вейль [186] тоже находит любителей, готовых платить до двадцати франков за полотно, что было для него в то время настоящим Эльдорадо.
— Они действительно были для вас полезны? — спросил я у Анри Матисса.
«Да, — ответил он, — насколько каждому дебютанту полезен торговец. Но в то время было необходимо, чтобы художник принес торговцу немедленную и непосредственную пользу, дабы просуществовать несколько дней за счет продажи нескольких картин; на это нельзя было прожить целый год. Контрактов не существовало, и торговцы (за исключением Воллара, погребавшего художников) не делали запасов. Мне так и не довелось быть в числе тех, чьи работы хранили про запас».
После Воллара и Берты Вейль наступила очередь Феликса Фенеона [187] и Жосса и Гастона Бернхеймов.
В то время я встречал Феликса Фенеона каждую среду на Вилле Саид у Анатоля Франса; его стройная фигура, безусое лицо, обрамленное остроконечной бородкой, делали его в общем похожим на дядюшку Сэма и Валантена ле Дезоссе.[188] Благодаря ему получил известность процесс «Тридцати»,[189] его ежедневные три строчки в разделе «Разное» газеты «Le Matin» подтверждали его репутацию прекрасного стилиста, одаренного хладнокровным юмором, а его художественный вкус не уступал литературному дарованию. «Он очень тонок», — говорил Матисс о Фенеоне, производившем на него сильное впечатление. Фенеону принадлежит лаконичное описание натюрморта Анри Матисса: «Живописный намек на нечто съестное».
Гастон Бернхейм рассказывает в «Маленьких историях о больших художниках» [190] о своей первой встрече с Матиссом: «Однажды, когда я был в своей конторе, ко мне зашел наш глубокоуважаемый директор Феликс Фенеон и сказал: „Гастон, там внизу ждет художник. Он просит взять его на место фактора в типографию. Но мне сдается, что у него талант. Не хотите познакомиться с ним?“ Я условился о встрече и отправился в Исси-ле-Мулино, где у этого художника была мастерская. Затем я подписал с ним договор на три года. Он возобновлялся в течение семнадцати лет. Это был Анри Матисс».
Этот договор от 18 сентября 1909 года и следующие за ним контракты находятся сейчас у меня, благодаря любезности гг. Добервиль Бернхейм-Жён.
Следует признать, что договор был выгоден для обеих сторон, причем нужно воздать должное Жоссу и Гастону Бернхеймам. Они тоже умели «выбрать». Достаточно привести некоторые основные выдержки:
«Между г. Анри Матиссом, улица Кламар, 42, Исси-ле-Мулино, Сена, и гг. Бернхейм-Шён, улица Ришпанс, в Париже, было заключено соглашение о следующем:
I. Все картины нижеперечисленных, а также промежуточных форматов, написанные г. Анри Матиссом до 15 сентября 1912 года, должны быть проданы гг. Бернхейм-Шён, обязующимся их покупать вне зависимости от сюжета по следующим расценкам:
Формат 50 [191] фиг. — 1875 фр.
40 фиг. — 1650
30 фиг. — 1500
25 фиг. — 1275
20 фиг. — 1125
15 фиг. — 900
12 фиг. — 750
10 фиг. — 600
8 фиг. — 525
6 фиг. — 450
II. г. Анри Матисс получит, кроме того, 25 % прибыли от продажи этих картин гг. Бернхейм-Жён.
IX. г. Анри Матисс имеет непосредственное право брать заказы на декоративное оформление или портреты без всяких претензий со стороны гг. Бернхейм-Жён.
X. гг. Бернхейм-Жён причитается 25 % от заказов на декоративное оформление и портреты, полученных г. Анри Матиссом при их посредничестве.
XI. При выплате упомянутых тридцати тысяч франков и предъявлении письменного заявления, обращенного к другой стороне, каждая из договаривающихся сторон имеет право в любой момент аннулировать данный контракт…»
Отныне, как шутя сказал мне Матисс, он был приговорен создавать шедевры. Во всяком случае, только что родившийся XX век был отмечен взлетом его гения.
Ночь 31 октября 1903 года. Вереница экипажей стоит у дверей Пти Пале, у тех дверей первого этажа, за которыми с 1934 по 1939 год будет размещаться выставка «Художники нашего времени». В ярком свете дуговых ламп, рассеянных там и сям в редкой листве, толпится элегантная публика: прекрасные парижанки в сильно декольтированных платьях, зябко кутающие обнаженные плечи в горностаевые и собольи манто, светские львы во фраках и смокингах.
Для этого ночного вернисажа архитектором Соважем,[192] таписьером Жансеном, администратором нового общества, Франсисом Журденом,[193] президентом Осеннего салона, и Айвенго Рамбоссоном,[194] благодаря которому удалось заполучить подвальный этаж Пти Пале, были предписаны вечерние туалеты.
В помещениях, великолепно освещенных светильниками Паса и Сильвы, обставленных мебелью Мажореля, Дюфрена, Фолло,[195] Франсиса Журдена, у полотен Аман-Жана,[196] Жак-Эмиля Бланша, Одилона Редона, Жоржа Девальера, Шарля Герена, Лапрада, Марке, Руо, Гогена, Матисса толпится «весь Париж», фривольный, щебечущий, оживленный. Александр Дюваль[197] оказывается бок о бок с графом Робером де Монтескью; [198] Марсель-Пруст и Леон Блюм [199] беседуют с Анной де Ноай; [200] Артюр Мейер [201] идет об руку со своей юной женой, внучатой племянницей Тюренна.[202] Приближается солидная пара: Альбер Бенар [203] и мадам Бенар; на роскошных бюстах, как в витринах, сверкают тяжелые кулоны Лалика.[204]
Родился Осенний салон. Большое событие для Парижа, большое событие для художников. На следующий год новый Салон, особенность которого состояла в том, что в нем участвовали не только художники и скульпторы, но и архитекторы, специалисты по интерьеру, и даже музыканты и писатели, переберется на другую сторону авеню Николая II[205] (Анри Лапоз, тогдашний хранитель Пти Пале, счел Салон нежелательным). Директор Департамента изящных искусств Анри Марсель, один из наиболее пылких защитников новой живописи, гостеприимно предоставил новому обществу здание Гран Пале.
Итак, над академизмом одержана победа, но это не значит, что он примирился со своим поражением. В 1904 году в Осеннем салоне был показан великолепный подбор картин Сезанна; выставка нашла положительный отклик в прессе и привлекла большое число посетителей. Этого было достаточно, чтобы привести в ярость сторонников Института. Каролюс-Дюран не мог допустить, чтобы кто-то выставлялся одновременно в Осеннем салоне и в Национальном обществе изящных искусств, где он был председателем. Что касается французских художников,[206] то они обратились к властям, чтобы добиться изгнания этих вандалов из Граи Пале.
В муниципалитете некий член городской управы, гасконец, фотограф Лампюэ, обеспечил себе легкий успех, упрекнув правительство в том, что оно предоставило официальное здание этой банде мазил. Однако Карьер угрожал покинуть Национальное общество, если только Каролюс-Дюран не поведет себя более либерально, [207] а Анри Марсель, наделенный характером вепря, невзирая ни на академиков, ни на министров, держался стойко и тем оказывал большую поддержку независимому искусству.
Наступил 1905 год.
Под знаком Мане, которому Осенний салон устроил великолепную посмертную выставку, появились и стали все смелее вести себя «дикие». Уже несколько лет по весне из бараков на Кур-ла-Рэн,[208] где выставлялись Независимые, [209] доносился их звериный рык. Но там, среди джунглей и девственных лесов Таможенника Руссо, [210] они были на месте. Но в Гран Пале… Кто из нас, бывших свидетелей тех героических времен, не помнит этот большой зал, стены которого были сплошь залиты откровенно-резкими красками Матисса, Дерена, Вламинка, Мангена, Руо, Фриеза, Пюи, Вальта, Камуэна, эту «центральную клетку», которую вечером заполоняли революционеры от искусства, спустившиеся с Монмартра на Кур-ла-Рэн, подобно тому как за столетие до этого процессии бунтовщиков из предместья Сент-Антуан захватывали Конвент.