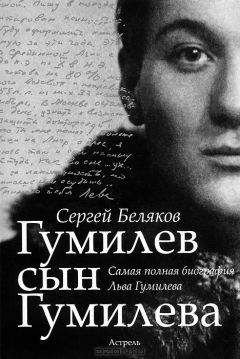В пять часов вечера в помещении Союза писателей (Фонтанка, 50) была назначена гражданская панихида.
В углу первой комнаты - возвышение. Комната полна народу, не протиснуться. Тихонов, Садофьев, Полонская, Пяст, Рождественский, Клюев, Каменский, члены "Содружества", пролетарские поэты, большинство членов Союза, посторонняя публика.
Около 6 часов привезли тело Есенина. Оркестр Госиздата, находившийся во второй комнате, заиграл похоронный марш. Тихонов, Браун, я и еще человек 6 внесли гроб, поставили на возвышенье, сняли крышку. Положили в гроб приготовленные заранее цветы. С двух сторон - венки. На одном - лента: "Поэту Есенину от Ленинградского Отделения Гос. Издата"...
В течение часа длилось молчание. Никто не произносил речей. Толпились, ходили тихо. Никто не разговаривал друг с другом, а посторонних, которые стали шептаться, просили замолчать: Софья Андреевна стояла со Шкапской у стены - отдельно ото всех. Бледный и измученный Эрлих - тоже у стены и тоже отдельно. Тут он уже не хлопотал - предоставил это другим. Клюев стоял в толпе и, не отрываясь, смотрел на Есенина. Плакал.
В гроб, в ноги Есенину, кто-то положил его книжки, и наверху - лежало "Преображенье".
От толпы отделилась какая-то молодая девушка в белой меховой шляпке, подошла к гробу. Встала на колени и склонила голову. Поднялась. Поцеловала руку Есенину. Отошла. Какая-то старуха, в деревенских сапогах, не то в зипуне, не то в овчинном полушубке, подошла к гробу. Долго крестилась. Приложилась и тоже заковыляла назад. Больше никто к гробу не подходил.
Около 7 часов явился скульптор Золотаревский со своими мастерами. Гроб перенесли во вторую комнату. Поставили на стол. Публику просили остаться в первой комнате. Во второй тем не менее скопилось много - все свои.
Софья Андреевна в кресле в углу, у печки. С виду спокойна. Шкапская потом говорила, что весь этот день С. А. была в тяжелом оцепенении. Тихонов - белый - сидел в другом углу на стуле, отдельно от всех. Какой-то интервьюер схватил его за рукав: "Несколько слов, товарищ Тихонов. Несколько слов". Тихонов устало отмахнулся от него рукой.
Было тихо. Только в соседней комнате гудел разговор оркестрантов... Один из них штудировал маленькую летучку - извещенье о гражданской панихиде и о проводах тела Есенина, которую разбрасывали по городу газетчики.
Публика прибывала. Стояли уже на лестнице. Пришел Ионов, давал распоряжения. Я пошел отыскивать ножницы. Софья Андреевна отрезала прядь волос - всегда пышно взлохмаченных, а сегодня гладко зачесанных назад.
Маски сняты. Гроб перенесен опять в большую комнату. Хотели отправляться на вокзал, но исчезла колесница. Тихонов и еще кто-то побежали в бюро похоронных процессий за другой.
Фотограф Булла раздвинул треножник, направил аппарат на гроб. Все отодвинулись. По другую сторону гроба встали Ионов, Садофьев, еще несколько человек, вызвали из толпы Клюева и Эрлиха. Они медленно прошли туда же и встали в поле зрения аппарата.
Кто-то сзади усиленно толкал меня, стараясь протиснуться к гробу, чтобы быть сфотографированным. Но толпа стояла так плотно, что пробраться он все же не сумел.
Вспыхнул магний.
Колесница стояла внизу. Стали собираться в путь. Браун, Рождественский, я поднесли крышку гроба и держали ее, пока друзья Есенина прощались с ним. Клюев склонился над телом и долго шептал и целовал его. Кто-то еще подходил. Крышка опущена. Мы вынесли гроб. Вторично заиграл оркестр.
Погода теплая. Мокрый снег ворочается под ногами. Темно. Шли по Невскому. Прохожие останавливались: "Кого хоронят?" "Поэта Есенина". Присоединялись. Когда отошли от Союза, было человек 200 - 300. К вокзалу пришло человек 500.
Товарный вагон был уже подан.
Поставили гроб в вагон - пустой, темный...
Жена Никитина устанавливала горшки с цветами, приспосабливала венки; в вагон приходил Эйхенбаум, но скоро ушел. Перед вагоном - толпа. Ионов встал в дверях вагона. Сказал небольшую речь о значении Есенина. После Ионова выступил с аналогичной речью Садофьев. После Садофьева Эльга Каминская прочла 2 стихотворения Есенина.
Софья Андреевна и Шкапская вышли из вагона.
Кто-то просил Тихонова сказать несколько слов. Тихонов отказался.
К 10-ти часам все было прилажено, устроено. Публика разошлась. Оркестр ушел еще раньше, сразу после прибытия на вокзал. Последней из вагона вышла жена Никитина. Вагон запломбировали.
Мы собрались в буфете, пили чай и говорили. За столиком: Тихонов, Никитин с женой, Садофьев с женой, Полонская, Эрлих, Шкапская и, кажется, Б. Соловьев. Отдельно от нас, за другим столом - Софья Андреевна, Наседкин, скульптор и кто-то еще.
Мы, печальные, усталые, обсуждали все, что нужно было сделать еще. И вспоминали. Тихонов рассказывал, как после первого известия он в буквальном смысле слова - вспотел, как не мог успокоиться до вечера, как не спал всю ночь - почти галлюцинируя. И только увидев тело сегодня в Союзе, он как-то спокойнее стал, как-то отдал себе отчет в происшедшем. А происшедшее было так ошеломляюще, что никто не мог понять его до конца, никто из нас еще не умел говорить о Есенине - мертвом.
Знали, что завтра в газетах будет много лишнего, ненужного и неверного. Решили принять меры к тому, чтобы этого не случилось - надо просмотреть весь материал для завтрашних газет. Тихонов и Никитин поехали по редакциям. Никто не сомневался в том, что Есенина надо хоронить в Москве, а не в Рязанской губернии. Садофьеву поручено было хлопотать об этом в Москве (как оказалось после, Москва сама так же решила).
Около 11 вечера вышли на платформу. Поезд был уже подан, и вагон с гробом прицеплен к хвосту. В 11.15 поезд тронулся. Я протянул руку к проходящему вагону и прошуршал по его стенке. В Москву уехали Софья Андреевна, Садофьев, Наседкин и Эрлих. На платформе остались: Шкапская, Никитина, Садофьева, Соловьев, Вл. Пяст. Пошли по домам.
Газеты этого дня пестрели уже сведениями о смерти Есенина, воспоминаниями, подробностями. Кое-что в газетах было искажено, например, рассказ о стихотворении, будто написанном кровью, и другие мелкие подробности.
Во все последующие дни в клубах, в райкомах, в других местах устраивались вечера памяти Есенина, читались доклады, стихи... До сих пор слово "Есенин" не сходит с уст. Где бы ни встречались люди друг с другом, темы о смерти Есенина не миновать. И не только в литературном мире.
В один из последующих дней по телеграмме из Москвы от похоронной комиссии я получил одежду Есенина из Обуховской больницы - кулек, завернутый в простыню и перевязанный веревкой.
Вещи держал у себя, пока их не взял у меня приехавший из Москвы Эрлих.
И. Наппельбаум сфотографировала лист со стихотворением, отпечаток можно получить у нее.
8.01.1926
Вернувшийся из Москвы Садофьев сделал в Союзе поэтов доклад о похоронах Есенина в Москве. Комнатки Союза были переполнены, редко бывает такое сборище. После доклада читались стихи памяти Есенина.
29.01.1926
На 25 января был назначен большой вечер памяти Есенина в помещении филармонии. Вечер должен был быть устроен Союзом поэтов. Была избрана организационная комиссия, в которую вошли: Садофьев, Лавренев, Фроман, Эрлих, Четвериков и я, однако из-за отсутствия средств - зал стоит 400 руб. - вечер устроить не удалось. Дело передали КУБУчу1, и вечер должен состояться 8 февраля. Поэты будут читать стихи, посвященные Есенину, артисты декламировать стихи самого Есенина.
Записи о встречах с Мандельштамом, беседы с ним, то здесь то там разбросанные по дневнику, а также записки самого Мандельштама, сохранившиеся в архиве, можно собрать в отдельную работу. Мандельштам - человек экстраординарный - не был призван спокойно и постоянно ладить с окружающими его людьми. Но Лукницкого он ценил, и дружеское общение у Мандельштама с ним получалось. Он к этому общению стремился и часто даже был инициатором его. Павел Николаевич, пожалуй, единственный, с кем Мандельштам ладил всегда.
Лукницкому было тяжко вдвойне: он воспринимал не только мандельштамовскую неуравновешенность, но, находясь в "плену" Ахматовой, еще и ее глазами - неоднозначно, противоречиво, в зависимости от ее обстоятельств и ее настроения...
Это можно проследить, читая в е с ь дневник. Но дневник есть дневник, и, пока он не опубликован, читатель найдет в этой книге несколько записей Лукницкого о Мандельштаме вне контекста, как, впрочем, и многие другие записи...
1.02.1926
Встретив на Невском только что вернувшегося из Крыма Осипа Мандельштама и отдав свой локоть его руке, я направился с ним в сторону, противоположную той, куда шел. Обменявшись приветствиями и расспросив о Крыме, я услышал робкую, хотя и торжественным тоном произнесенную, фразу:
- Павел Николаевич, вы не смогли бы одолжить мне денег?
- Сколько, Осип Эмильевич? То, что есть у меня, - в вашем распоряжении.
- А сколько у вас есть? - пытливо заглянул он мне в глаза.