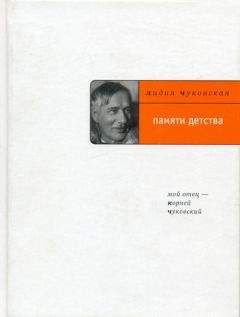Ознакомительная версия.
Бывало, в Куоккале стоит на морозе и восторженно смотрит вверх, словно слушает далекую музыку. Это он любуется дымом, который идет из трубы. И на лице у него умиление. «Какая фантазия — эти дымы из труб! — говорит он в одной статье. — Они так играют на солнце! Бесконечные варианты и в формах и в освещениях!»
Красками, тонами и формами зримого мира он часто восхищался, как музыкой. Вот его впечатления от Волги, от очертания ее берегов:
«Это запев „Камаринской“ Глинки… Характер берегов Волги на российском размахе ее протяжений дает образы для всех мотивов „Камаринской“, с той же разработкой деталей в своей оркестровке»[55].
И Рембрандта ощущал как музыку.
«…Рембрандт обожал свет. С особым счастьем купался он в прозрачных тенях своего воздуха, который неразлучен с ним всегда, как дивная музыка оркестра, его дрожащих и двигающихся во всех глубинах согласованных звуков»[56]. «…Ни один художник в мире не сравнялся с ним в этой музыке тональностей»[57].
И даже своего «сыноубийцу Ивана» написал под наитием музыки.
— Когда-то в Москве, — говорил он впоследствии, — я слышал новую вещь Римского-Корсакова. Она произвела на меня неотразимое впечатление, и я подумал, нельзя ли воплотить в живописи то настроение, которое создалось у меня под влиянием этой музыки.
Отсюда, мне кажется, та музыкальность, которая присуща его лучшим картинам. Много раз я слышал от него, что, когда он писал «Дочь Иаира», он просил своего брата играть ему целыми часами на флейте, и, по его выражению, флейта была в полной гармонии с композицией и колоритом этой ранней картины.
Вообще всякий, кто хоть бегло перелистает его мемуары, увидит, что. кажется, ни один человек не умел так жарко, самозабвенно, неистово восхищаться материей, «физикой» окружающего реального мира. В своей замечательной статье о Крамском он вспоминает, что его товарищи-художники привезли как-то в коммунальную мастерскую натурщицу, лицо которой до такой степени полюбилось ему, что он буквально остолбенел от чрезмерного счастья.
«Я не помню, сколько сидело художников, — где тут помнить что-нибудь при виде такой очаровательной красоты! Я забыл даже, что и я мог бы тут же где-нибудь присесть с бумагой и карандашом… Голос Крамского заставил меня очнуться.
— Однако же и на вас как сильно действует красота! — сказал он…»[58].
Репин не был бы Репиным, если бы зримое не доставляло ему таких наслаждений. Еще когда он был ребенком, его мать говорила ему:
«Ну что это за срам, я со стыда сгорела в церкви: все люди, как люди, стоят, молятся, а ты, как дурак, разинул рот, поворачиваешься даже к иконостасу задом и все зеваешь по стенам на большие картины»[59].
Тот ничего не поймет в Репине, кто не заметит в нем этой черты. Если бы он не был по натуре таким восторженным и ненасытным «эстетом», он никогда не поднялся бы так высоко над большинством передвижников. Недаром Крамской дал ему прозвище «язычника», «эллина».
Я уже говорил, что всякий раз, когда рисовал он с натуры или лепил кого-нибудь из глины, у него на лице появлялось выражение счастья. Он сам описывал это счастье такими словами:
«…Я — о блаженство, читатель! — я с дрожью удовольствия стал бегать карандашом по листку альбома, ловя характеры, формовки, движения маленьких фигурок, так прелестно сплетавшихся в полевой букет…»[60].
Эта эллинская любовь к «предметам предметного мира» заставила его уже в предсмертные годы воскликнуть в письме к дочери:
«Какое счастье писать с натуры тело!»[61]
Но значит ли это, что у него было эстетское восприятие жизни? Конечно, нет.
Мы уже видели на предыдущих страницах, с каким презрением Репин относился к эстетству, как ненавидел он акробатику кисти, живописность ради живописности. Он всегда с сочувствием цитировал ныне забытое изречение Крамского, что художник, совершенствуя форму, не должен растерять по дороге «драгоценнейшее качество художника — сердце».
И если Репин стал любимейшим художником многомиллионного народного зрителя, то именно потому, что его живопись была осердечена.
Мастерство и сердце — вот два равновеликих слагаемых, которые в своем сочетании и создали живопись Репина, как они создали романы Толстого, поэзию Лермонтова, музыку Мусоргского.
Уже его учитель Крамской понимал, что слагаемые эти равновелики.
«Без идеи нет искусства, — писал он, — но в то же время, и еще более того, без живописи живой и разительной (то есть без мастерства. — К. Ч.) нет картин, а есть благие намерения, и только»[62].
Репин был вполне солидарен с Крамским и писал ему еще в 1874 году:
«…Наша задача — содержание… Краски у нас — орудие, они должны выражать наши мысли. Колорит наш — не изящные пятна, он должен выражать нам настроение картины, ее душу, он должен расположить и захватить всего зрителя, как аккорд в музыке. Мы должны хорошо рисовать» [63].
«Хорошо рисовать» — это и есть изощренная техника, но эта техника, по мнению Репина, должна существовать не сама по себе, а в сочетании с «сердцем», с «идеей».
Однако тут же, в этой самой книге, мы наталкиваемся на мысли, которые неожиданным образом резко противоречат утверждениям обоих художников о единой природе содержания и формы. Эти мысли можно было бы назвать антирепинскими — до такой степени враждебны они всей творческой практике Репина.
Очевидно, «обожание натуры», которое, как мы видели, было наиболее отличительным качеством Репина, захватывало его с такой силой, что ему в иные минуты казалось, будто, кроме восторженного поклонения «предметам предметного мира», ему, в сущности, ничего и не надо, что самый процесс удачливого и радостного перенесения на холст того или иного предмета есть начало и конец его живописи.
«Невольно, — писал он тогда, — возникают в таких случаях прежние требования критики и публики от психологии художника: что он думал, чем руководился в выборе сюжета, какой опыт или символ заключает в себе его идея?
Ничего! Весь мир забыт; ничего не нужно художнику, кроме этих живых форм; в них самих теперь для него весь смысл и весь интерес жизни. Счастливые минуты, упоения…»[64].
Конечно, без этих счастливых минут упоения вообще не существует художника. Но Репин не был бы русским художником шестидесятых-семидесятых годов, если бы во всех его картинах эта страстная любовь к живой форме не сопрягалась со столь же страстной идейностью.
Правда, в жизни Репина был краткий период (1893–1898), когда он объявил этой идейности войну, словно стремясь уничтожить те самые принципы, которые лежат в основе всего его творчества, которые и сделали его автором «Не ждали», «Бурлаков», «Крестного хода», «Ареста».
Этих высказываний особенно много в его «Письмах об искусстве», «Заметках художника» и в статье «Николай Николаевич Ге и наши претензии к искусству», написанных в 1893–1894 годах.
Идейное содержание картин Репин в этих статьях пренебрежительно именует «публицистикой», «дидактикой», «литературщиной», «философией», «моралью». Русские художники, пишет он, «заедены» литературой.
«У нас нет горячей, детской любви к форме; а без этого художник будет сух и тяжел и мало плодовит. Наше спасение в форме, в живой красоте природы, а мы лезем в философию, в мораль — как это надоело» [65].
«Да, у нас над всем господствует мораль. Все подчинила себе эта старая добродетельная дева и ничего не признает, кроме благодеяний публицистики».
«У нас же царят еще утилитаризм и литература в живописи».
«…Нельзя „порабощать“ великий дух художника „во имя гражданского долга“» [66].
И это пишет художник, который почти всю жизнь проявлял верность своему «гражданскому долгу», был публицистом в самом высоком значении этого слова.
Читатель, издавна привыкший восхищаться им как идейным художником, с изумлением прочтет в его книге такую, например, декларацию:
«Буду держаться только искусства и даже только пластического искусства для искусства. Ибо, каюсь, для меня теперь только оно и интересно — само в себе. Никакие благие намерения автора не остановят меня перед плохим холстом»[67].
Откуда же такой вопиющий разрыв между репинской теорией и репинской практикой? Как мог создать, скажем, «Крестный ход» или «Проводы новобранца» такой поборник «чистого искусства», каким изображает себя Репин в своих теоретических статьях 1893–1894 годов?
«Однажды, — пишет он, — под впечатлением одной из наших содержательных (то есть идейно насыщенных. — К. Ч.) и интересных выставок, я случайно натолкнулся на сформованный обломок из фронтона Парфенонского храма. Обломок представлял только уцелевшую часть плеча. Меня так и обдало это плечо великим искусством великой эпохи эллинов! Это была такая высота в достижении полноты формы, изящества, чувства меры в выполнении… Я забыл все. Все мне показалось мелко и ничтожно перед этим плечом» [68].
Ознакомительная версия.


![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)