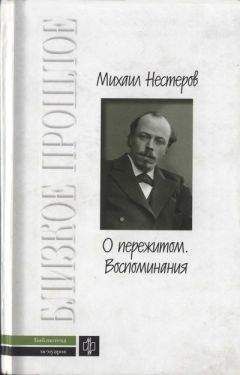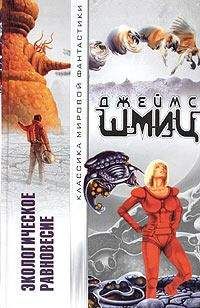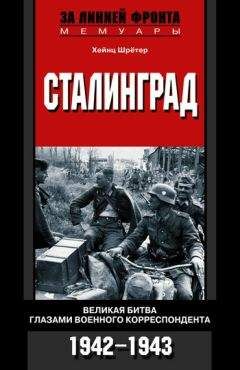Ознакомительная версия.
После занятий я узнал, что это был известный, талантливый и популярный в те времена художник Константин Александрович Трутовский. Он был инспектором Училища живописи, ваяния и зодчества. Его сын был первым учеником нашего класса.
Посещение Трутовского имело для моей судьбы большое значение. Он утвердил Константина Павловича в мысли, что на меня надо обратить особое внимание и готовить меня на иной путь. Вскоре мне были куплены масляные краски, и я стал под руководством Драбова копировать образ Архангела Михаила, работы известного в свое время Скотти. Эта копия подарена была позднее в Сергиевскую церковь в Уфе, где и находится до сих пор[50].
Подходили Рождественские праздники. По обычаю прежних лет, стали готовиться к роспуску. День роспуска был особым праздничным днем. Все классы, от младших до старших, каждый по-своему ознаменовали этот день. Было в обычае украшать классы флагами, транспарантами, эмблемами, плакатами. И вот тут для моей изобретательности был большой простор. Еще в минувшем году украшения нашего класса были отмечены всеми, в этом же году надо было затмить всех. Весь класс был заинтересован в этом. Весь класс помогал мне, чем мог, и сохранял тайну до самого последнего момента, когда класс был разукрашен мной, и остальные классы могли войти и любоваться моим созданием. Похвалам не было конца. Я был героем этого дня и ходил победителем.
Но, как ни был хорошо украшен наш класс к Рождеству, все же то, что было придумано и сделано мною к Светлому Празднику, оставило за собой все предшествующее. Огромный плакат из синей бумаги с очень красивыми, мудреными буквами, украшенными цветами, орнаментами, был протянут во всю стену класса. На нем вещалось, что сегодня «Роспуск». Об этом говорило и все остальное убранство класса. Любоваться приходили не только ученики, но и все учителя. Меня восхваляли, качали, носили на столах перед всем классом, словом, я был триумфатором. Это был успех, который порядочно вскружил мне голову, и я еще меньше стал думать об уроках, о надвигающихся экзаменах.
На Пасхе Константин Павлович решил послать меня с воспитателем на Передвижную выставку, которая помещалась на Мясницкой же в Училище живописи и ваяния[51]. Пошли мы с Н. И. Мочарским, любителем художеств. Это был незабываемый день.
Я впервые был на выставке, да еще на какой, — лучшей в те времена!.. Совершенно я растерялся, был восхищен до истомы, до какого-то забвения всего живущего, знаменитой «Украинской ночью» Куинджи[52]. И что это было за волшебное зрелище, и как мало от этой дивной картины осталось сейчас! Краски изменились чудовищно. К Куинджи у меня осталась навсегда благодарная память. Он раскрыл мою душу к природе, к пейзажу. Много, много лет спустя судьбе было угодно мое имя связать с его именем. По его кончине я был избран на его освободившееся место, как действительный член Академии художеств.
Из других картин понравились мне поэтический «Кобзарь» Трутовского, «Опахивание» Мясоедова, «Слепцы» Ярошенко[53]. Все эти художники позднее играли заметную роль в моей художественной жизни. Вернулся в пансион я иным, чем был до выставки.
Экзамены встретил я равнодушно, но все же с грехом пополам перешел в следующий класс, что меня и не радовало уже. Вот и весна, вот и летние каникулы. Не сегодня-завтра приедет отец, и я опять поеду домой в свою Уфу. Многие уже разъехались, классы пустели, становилось скучно.
Однажды меня позвали к Константину Павловичу, я не знал зачем. Могло быть, что и для проборки за какую-нибудь выходку. Иду. Гадаю. В приемной вижу, сидит с Константином Павловичем мой отец. Обрадовавшись, расцеловались, и тут же было мне объявлено, что с осени я в училище не буду, не поступлю и в Техническое, что меня хотят отдать в Училище живописи и ваяния и что я должен сказать, желаю ли я быть художником и даю ли слово прилежно там учиться и не шалить так, как шалил до сих пор. Не надо было долго ждать ответа. Я пылко согласился на все: и стать художником, и бросить шалости.
Я не знал тогда, каких трудов, какой затраты сил, времени потребуется с моей стороны, чтобы преодолеть все преграды и стать спустя много времени в ряды избранников. Я не знал, чего стоило отцу согласиться с Константином Павловичем отдать меня в училище на Мясницкой, чего стоило отцу проститься с мыслью видеть меня инженером-механиком или чем-то вообще солидным. Каково было именитому уфимскому купцу Василию Ивановичу Нестерову перенести этот «удар судьбы». Сын его — «живописец»! Он знал цену этим живописцам, часто пьянчужкам, полуголодным неряхам.
Тут недалеко уже и до Павла Тимофеевича — сына Тимофея Терентьевича Белякова, старика, почтенного человека, у которого младший сын не удался, да как не удался! Сначала Павел Тимофеевич отпросился в монастырь. Не хотелось старику отпускать его от большого бакалейного дела, да делать нечего, пришлось. Ушел Павел, да не остался в монастыре. Пробыл там год, другой и пропал. Искали везде — нет монаха. Думали, не случилось ли что.
Прошло года два-три. Поехали наши уфимцы на Нижегородскую… Вернулись с ярмарки, рассказывают, что видели Павла Тимофеевича в Кунавине в театре — актером стал. Сам говорил, похвалялся… Затужил старик, забываться стал да вскоре и помер.
Дело повел старший брат. Стали забывать позор семьи. Так нет же, прошел слух, что едет в Уфу новая труппа, и слышно, что в труппе той между актерами и наш «монах». Стали ждать актеров с нетерпением. Вот расклеили по заборам анонс. Состав труппы разнообразный, репертуар тоже. От высокой трагедии до «Прекрасной Елены» — все было обещано уфимцам новым антрепренером Хотевым-Самойловым. Но им хотелось больше всего посмотреть своего «монаха». Вот и его фамилия — Беляков, правда, в самом конце, за ним уже шли декоратор, парикмахер и прочие… Ну да ничего, посмотрим…
Настал желанный день. Шла трагедия Шекспира, и в конце афиши пропечатано, что роль слуги исполняет г<осподин> Беляков. Все пошли из Гостиного двора смотреть земляка. Ждали нетерпеливо. Что за беда, и сам Мартынов играл лакеев! Как играть — игра игре рознь!
Открылся занавес. Трагедия началась, стала захватывать зрителей. Все ужасы человеческих страстей проходили перед глазами уфимцев. И вот настал желанный момент, — из левой кулисы уныло вылез наш «монах»… с фонарем в руках, поставил его на пол и, не зная, куда себя деть, стал мяться на месте…
Тяжело было ранено патриотическое чувство уфимцев. Так тяжело, что они молча стерпели обиду и молча разошлись по домам и только на другой день дали волю злоязычью[54].
Не раз самолюбивому В. И. Нестерову приходил на ум беляковский позор — неудачливый «монах»-актер. Что-то выйдет из своего «художника»? Не вышел бы богомаз-пьяница… Ну, такова, верно, воля Божья, — посмотрим. К тому же очень хотелось верить словам Константина Павловича. Он зря не скажет, не посоветует. А ведь он говорит, что каяться не придется, толк будет — способности большие… Посмотрим, посмотрим… С этим и в Уфу приехали. Порассказал отец все матери. Посудили, поохали, да так и решили, как советовал Константин Павлович.
В училище живописи, ваяния и зодчества
Лето прошло быстро. Я рисовал и в комнате, и в саду: самому нравилось, другие хвалили…
Снова собрались в Москву. Константин Павлович обещал за лето обо мне подумать. И надумал… Порешили меня устроить у одного учителя — Добрынина, преподававшего у Воскресенского и в Училище живописи математику. У Добрынина на Гороховом поле[55] было два своих домика, в них жили его семья и нахлебники — ученики Училища живописи. Туда и меня отвезли. Помещались мы в двух-трех комнатах на антресолях, человек до десяти молодцов.
В Училище был назначен приемный экзамен по рисованию. Живо помню этот день. Провели нас в один из больших классов (головной) и засадили рисовать голову Апостола Павла. Горячо все взялись за дело… Испытание длилось несколько часов.
Впереди меня сидел деревенский паренек в коричневой, отороченной широкой тесьмой поддевке, с волосами на затылке, подбритыми в скобку, в сапогах со сборками… Он отлично делал свое дело. Я был восхищен его рисунком, да и другим он нравился. Это был крестьянин Рязанской губернии — Пыриков. Позднее, когда Пыриков был принят в головной класс, оказалось, что это его прозвище, а фамилия его Архипов, зовут его Абрам, по батюшке Ефимович — будущий известный художник.
Нравился мне широким, свободным «жюльеновским» штрихом[56] и другой рисунок — Лавдовского, — Фени Лавдовского, хорошего товарища, будущего декоратора Малого театра.
Испытание для меня кончилось счастливо. Я тоже, как Архипов, как Лавдовский, как многие другие, был принят в головной класс. Скоро начались и занятия с профессором Десятовым, учеником Зарянко.
Ознакомительная версия.